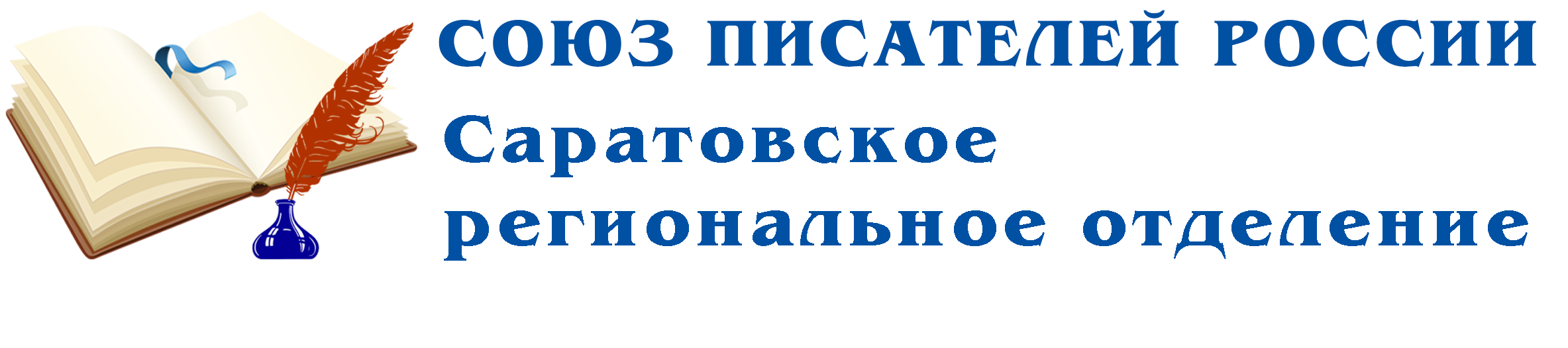Редко кого из писателей представляешь себе так по-человечески, почти по-родственному близко, как Василия Макаровича Шукшина. Конечно, большую роль здесь сыграли и его подлинно народные фильмы, и его актерское обаяние. Но и в своём литературном творчестве он как-то лично надобен и интересен.
Шукшин жил недолго. Смерть, особенно такая — несправедливая, на взлёте, на полуслове — всегда поселяет в душе вопросы: «Ну, почему именно он?» «Какой в этом смысл?» «Как же так?» - И вместо ответов, которых нет, боль: «А ведь сколько ещё бы мог сделать!» И выстраивается скорбный список из ненаписанных книг, непоставленных фильмов, несыгранных ролей...
И лишь много позже начинаешь понимать судьбу ушедшего художника не как оборванную нить, а как до конца пройденный жизненный путь в его целостной завершенности. Шукшину хватило его 45 земных лет, чтобы состояться уникальным явлением русского духа. Прошедшее время показало: герои Шукшина, сохраняя ностальгические приметы прошлого, по законам подлинного искусства живы и сегодня.
О таком творческом итоге может мечтать любой художник. Уходя, писатель остался. Как осталось и его послесловие, по сути, к собственной судьбе: «Вот, жалеют: Есенин мало прожил. Ровно — с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает» («Верую!»).
Как ни горько, но Шукшин прав и в этом...
Герои Василия Шукшина сегодня как-то особенно тревожат своей искренностью, уязвимостью, почти несуразной беззащитностью. Они дорого платят за свою доверчивость, но стать другими — не могут. Их хочется спасать, как гибнущую природу и исчезающую натуру.
В художественном мире писателя, как и в самой жизни, всё пребывает в движении: простота оборачивается высшей мудростью, стремление жить по своей воле — духовной неприкаянностью, за незамысловатым сюжетным поворотом возникают мучительные вопросы о смысле жизни.
В его простецких, вроде бы, рассказах не остановлено, а вживлено течение времени, которое, куда бы ни устремлялось, а коренное свое русло всё равно не забудет.
Видимо, поэтому, перечитывая сегодня Шукшина из другой жизни, особенно отчетливо видишь: мы, и в самом деле, отошли от ценностей, за которые предки наши заплатили высокую цену. Произведения писателя сегодня — это не просто слепок прошлого, это напоминание об утраченном, а порой — точный комментарий к тому, что с нами сегодня происходит...
…Обманулся старик Никитич в «скромном обаянии» беглого уголовника, приписав ему образованность учителя и наивность своих городских внуков («Охота жить»). Опытный человек, таежный охотник как мальчишка поверил словам, а не делам пришлого красавца, за что и поплатился жизнью. За доброту свою и сострадание был убит в спину из своего же ружья.
...Уголовное отребье и Егору Прокудину («Калина красная») не простило его возвращения к крестьянским корням. Только что с таким трудом обретённый путь был кроваво перечёркнут Губошлепом, фигурой для писателя символической. Мудро организованному народному укладу, с чётко определённой системой ценностей, противостоит пуля-дура уголовника как последний аргумент в пользу его одноклеточного существования.
А ведь жизнь, лишенная смысла, чудовищна, непереносима. Об этом — пронзительный шукшинский рассказ «Сураз». Спирька Расторгуев — как молодой бог, всё дала ему природа: красоту, доброту, силу. Только не научила, что со всем этим добром делать? Вот и чудит он, удивляя сельчан своей щедростью и дерзостью. Без руля и ветрил мчит по жизни, пока не встречается ему женщина, в которую влюбляется он так же безудержно, как и всё, что делает. Жестокое любопытство, ведущее его по жизни, обретя, наконец, цель, не даёт остановиться перед такой преградой, как замужество желанной женщины. Стихийная сила его красоты и характера не привыкла просчитывать последствий. Он просто до донышка упивается чувством, за которое никакая плата не велика. «Спирька наслаждался: как в знойный-знойный день пил из ключа студёную воду, погрузив в неё все лицо. Пил и пил — и по телу огоньком разливался томительный жар. Он взял женщину за руку... Как во сне! — только бы не просыпаться».
Но пробуждение — увы! — неминуемо. Унизительно и жестоко был избит он своим хорошо натренированным соперником. С мыслью о мести, однако, пришлось расстаться: женщина так отчаянно бросилась защищать своего мужа, что нацеливший ружьё Спирька «как-то ясно вдруг понял: если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить, ни залить вином нельзя будет».
Как же быть теперь? Ведь не просто побили — душу вынули и растоптали. Но что самое непонятное — злости при этом у Спирьки не было, а было невыносимое ощущение тупика: «А как же теперь? На этот вопрос Спирька не знал, как ответить... Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишённой смысла. Временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мёртвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит, и всё».
...Спирька вскоре убил себя из того же самого ружья на весёлой лесной полянке, обретя, наконец, покой для своей измученной души...
Спирьку, конечно, жаль до слез, как жаль и любого человека, достойного лучшей участи. Но рассказ этот — ещё и об особенностях нашей национальной реакции на унижение и обиду. Нам больно, но злобы нет и зла мы обидчику не желаем. Нет чувства мести, как ни распаляй себя, а между тем воля к жизни исчезает. Так и вымираем мы — молча...
Герои Шукшина крепко срослись с землёй, их породившей, все они — наши земляки, земели. Без родины они тоскуют, к ней не устают стремиться, ради неё порой готовы на странные, с точки зрения холодного ума, поступки. «И пришла весна — добрая и бестолковая, как недозрелая девка», — начинает своё повествование писатель («Степка»).
Именно такой — добрый и бестолковый — и главный герой рассказа Степан Воеводин. Он так в тюремной неволе стосковался по родным местам и людям, что сбежал, не досидев трёх месяцев до конца срока. На вопрос пришедшего за ним милиционера: «Зачем ты это сделал?» — Степка, вдыхая знакомый с детства терпкий весенний холодок и задумчиво улыбаясь, просто ответил: «А вот — пройтись разок... Соскучился.
— Так ведь три месяца осталось! — почти закричал участковый. — А теперь ещё пару лет накинут.
— Ничего... Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то сны меня замучили — каждую ночь деревня снится... Хорошо у нас весной, верно?»
Да, самовольно и самовластно ведет себя душа в теле шукшинских героев: она побуждает их делать резкие повороты в судьбе («В профиль и анфас»), страдать от непонимания окружающих («В воскресенье мать-старушка...»), заниматься несвойственным им делом («Раскас») и размышлять, размышлять, докапываясь до самой сути. Потребность эта, как известно, обостряется в минуты кризисные, в особенности — в ситуации болезни или близкой смерти.
«Стариковское дело — спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушёл.
И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят тёплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы» («Земляки»).
Если уж пожившему старику Квасову не хочется с жизнью расставаться, что и говорить о нестаром, но хвором Сане Неверове («Залётный»), у которого скорая смерть рождает бунт против бессмысленной жестокости природы, в которой человеку отведена роль «нечаянной, прекрасной, мучительной попытки Природы осознать самоё себя». Не может он понять, за что же восстала на него природа, за что мстит ему? И не в силах осознать всего этого, он в сердцах бросает смерти: «Дура!» — и, обиженно отвернувшись к стене, умирает.
Герои Шукшина «ищут веру, но о ней не просят». Вновь и вновь подходят они к вопросам веры, Бога и религии, но... Священнослужители смущают их своей клановой закрытостью, неожиданной практичностью и меркантильностью («Мастер»). Идеализм и дидактизм вероучения вызывает несогласие. «Ненавижу, когда жить учат. Душа кипит! Суют в нос слякоть всякую, глистов: вот хорошо, вот как надо жить. Врут! Мертвечиной пахнет! Нету на земле святых! Я их не видел. Зачем их выдумывать?» («Охота жить»).
И хотя этот нервный визг принадлежит человеческой обманке — нелюди в красивой упаковке, — но и мудрый, проживший долгую жизнь Никитич смог возразить ему по одному только «пункту», опираясь при этом не на христианское вероучение, а на свой человеческий опыт: «...не было бы добрых людей, жись бы давно остановилась. Сожрали бы друг друга или передрались. Это никакой меня не Христос учил, сам так щитаю. А святых — это верно: нету. Я сам вроде ничо? — никто не скажет плохой или злой там». Однако и за ним грехи числятся, и старик помнит об этом.
Поп для шукшинских героев, которые родом из атеистической советской эпохи, — существо из другой жизни, таинственное и непонятное — «с волосьями». Но когда им по-настоящему плохо, когда душа наотрез отказывается понимать, для чего её «таскают», возникают мысли о Боге, и за ответом идут они всё-таки к людям, связанным с церковью.
Впрочем, вряд ли успокоит мятущуюся душу Максима Ярикова («Верую!»), на мой взгляд, абсолютно литературный поп, который глушит с мирянами спирт, богохульствует и вообще ведёт себя чересчур живописно и несообразно.
Да и верует этот странный батюшка вовсе не в Бога, а в конкретную жизнь со всеми атрибутами научно-технического прогресса (в авиацию, механизацию сельского хозяйства, научную революцию, космос, невесомость и прочее).
Явный экологический уклон просматривается в этой вере: «Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города, <...> что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!» И вообще только объективно существующие вещи — барсучье сало, бычий рог, стоячая оглобля, — одним словом, «плоть и мякость телесная» — являются для этого ироничного попа истинным предметом поклонения. Христотерпцем трудно назвать этого громилу в рясе, который на зло реагирует как хорошо тренированный боксер: «Я поднимусь и дам в рыло. Никаких — «подставь правую». Дам в рыло, и баста». При этом в жизненном забеге для него главное — не быть варёным петухом, не допускать слабости в коленках, не скулить на месте, а бежать вместе со всеми, какая разница — куда? — «все в одну сторону — добрые и злые».
Этот не слишком удачный шукшинский рассказ, думается, важен как направление авторского поиска, как выработка приоритетов, среди которых главнейший — человеческая душа как она есть. Вот почему так интересны писателю люди с резко очерченной, хоть иногда и кривой, линией жизни. Вот почему так дорого ему чувство воли, когда «наскипидаренная» душа героя рвется проявить себя во всем естестве.
Даже Степан Разин в шукшинской трактовке пришел дать волю людям потому, что сам он — человек, разносимый страстями, — пусть и не всегда умеет совладать со своим характером; безумствует, съедаемый тоской и болью души. Но в глубине этой души, определённо, есть жалость к людям. И живёт она, эта душа, и болит в судорожных движениях любви и справедливости, «и нету в ней одной только голой гадской страсти — насытиться человеческим унижением» («Я пришёл дать вам волю»). За это любит и помнит русский народ Степана Тимофеевича.
А Василий Шукшин, точно понявший и выразивший это, действительно, писатель народный. Когда есть у тебя душа, «стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни — смерил нечто драгоценное и всё понял» («Залетный»).

А что понял-то? — снова и снова вопрошаем мы писателя. И он, не прячась за слова, не надувая щек, честно признается, что готовых ответов у него нет. Есть думы. «Теперь много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай...»
Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о нём — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я её не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да и сам я её понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно — до отчаяния и злости — не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так — грамоты ради и слегка из трусости — величаю её с заглавной буквы, а не знаю — что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их» («Дядя Ермолай»).
Одним словом, у всех своя голова на плечах, вот и решайте! Но только, смотрите, за думами о жизни самой жизни не проморгайте! Помните, как честит старуха из рассказа «Письмо» своего меланхоличного зятя? И дятел-то он грустный, и столб угрюмый, и сыч, и журавль задумчивый. «Читай, зятёк, почитай — я и тебе скажу: проугрюмисся всю жизнь, глядь — помирать надо... Чижало так жить!.. Ты живи да радуйся, да других радуй... Я вот жду вас, жду не дождусь, а еслив ты опять приедешь задумчивый, огрею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроютца» («Письмо»).
И права эта старуха, как, по большому счету, прав и Егор Прокудин: «Воля и весна! Чего ещё человеку надо?». А если это кому-то непонятно, то и объяснять не стоит: «Умеешь радоваться — радуйся, не умеешь — сиди так». При душе своей тухлой. И никакой смысл тут не поможет.
Совершенно очевидно, что Шукшин-писатель даёт нам волю решать эти вопросы самостоятельно, намеренно не отпускает своим читателям рецептов на все случаи жизни.
Это только пустобрех Макар Жеребцов учит всех жить «по возможности весело, но благоразумно», с «пониманием многомиллионного народа». Или Н.Н. Князев, «человек и гражданин» («Штрихи к портрету»), который обильно развивает свои куцые мысли о государстве, о смысле жизни, о проблеме свободного времени и прочем. Но чем это для них кончилось, мы все хорошо помним: обоим «за-гвоздили» их неблагодарные оппоненты, одному — в челюсть, другому — пониже. И всё почему? — а не лезьте, поганцы, в душу, не для того она предназначена!
Нашим бы публичным деятелям этот урок усвоить. Ведь, по сути, аллегорию отлил Василий Макарович! Та же жирная, мягкая змея, которая сосет сердце праведного шукшинского «непротивленца», гложет и их внутренности. И что с того, что советы наших записных учителей жизни — никчемные, слова — лживые, а репутация — дурная, видимо, как и шукшинский герой Макар Жеребцов, свято веруют они в то, что не для этой жизни рождены, что гораздо крепче умом, чем простой народишко.
И на прямой вопрос мающегося похмельем деда: «А почто, например, ты то одно людям говоришь, то другое — совсем наоборот?» - Макар просто за всех радетелей об общественном благе и отвечает: «Вот, говоришь, путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу – охота помочь советом каким-нибудь. Потом раздумаешься: да пошли вы все!.. Как жили, так и живите – кроты».
Вершит философский диспут краткая дедова резолюция: «И всё-таки стерьва ты... Путаешь людей». Это точно.
Дед, конечно, терпит Макаровы откровения не за просто так — за бутылку плодово-ягодной. У нас сегодня прилавки побогаче, чем в сельповских прод- и проммагах, описанных Шукшиным. Но ведь и терпим мы не только словоизвержения Жеребцовых, и на шее у нас не один только свояк устроился («Свояк Сергей Сергеевич»).
В шукшинском рассказе приехавший в гости к деревенской родне приблатнённый свояк, как мы помним, неожиданно «отстегнул» кругленькую сумму на редкостный по сельским меркам подарок — лодочный мотор. Но уж зато и «оторвался» он в отпуске на всю катушку: то баньку требует, то жить учит, то шутейно-нешутейно на хозяйской шее по двору гарцует.
Как ни прост Андрей Кочуганов, а смекнул, что это проклятый мотор ему боком выходит. И возмутился бы он, но воля его парализована: дома встречает довольная жена, полно вкусной еды, да и мотор в сарае отливает масляным блеском. И решает «здравомысленный» Андрей: чёрт с ним, со свояком этим наколотым, стерплю, чай, спина не отвалится!
...Вот так, оседлав наше долготерпение, скачут на нас разнообразные свояки, как казаки через долину. Гоп!.. Гоп!.. — Выдюжим, стерпим: прилавки-то полные!.. Как говорится, лишь бы не было войны!..
...А ведь как-нибудь поутру и мы проснёмся и обнаружим, что жизнь прошла. И что прожили мы её тоже — как песню спели. Но спели плохо. А жаль — хорошая была песня...
Тяпугина ( Леванина) Наталия Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, литературовед, литературный критик, прозаик. Член Союза писателей России.
Н.Ю. Тяпугина (Леванина) - автор более ста семидесяти научных, литературно-критических, учебно-методических работ и более десятка художественных книг. Публиковалась в журналах «Москва», «Наш современник», «Октябрь», «Волга», «Дон», «Волга - XXI век», «Литература в школе», «Женский мир» (США); альманахах «Саратов литературный», «Краснодар литературный», «Эдита» (Германия), «Порт-Фолио» (США-Канада), в электронном журнале «Новая литература» и мн. др.
Лауреат литературного конкурса им. М.Н. Алексеева, лауреат Международного конкурса литературоведческих, культурологических и киноведческих работ, посвященного А.П.Чехову (2010). Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.