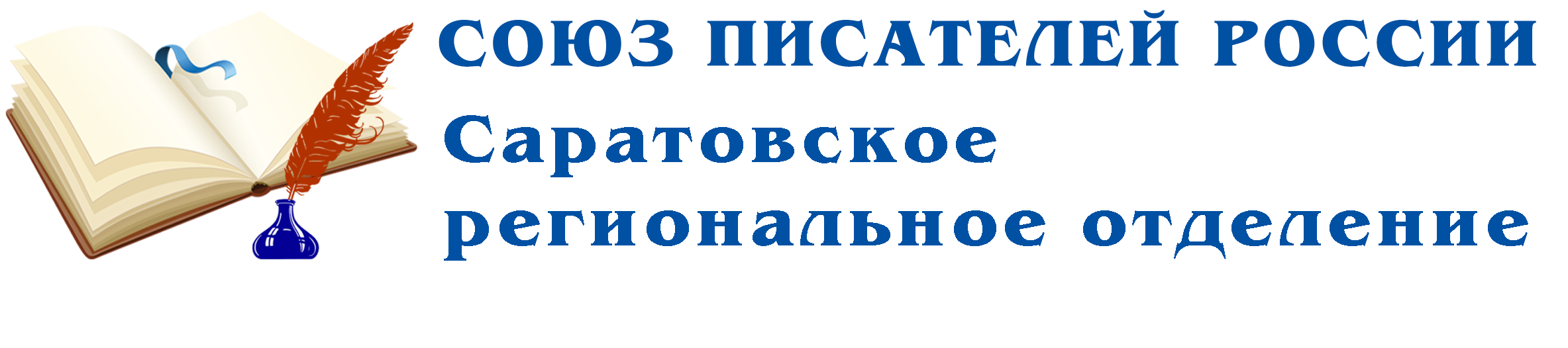Приглашение к разговору: «Сейчас, когда в очередной раз обострились поиски русской идеи, когда судорожно ревизуют остатки советского идеологического фундамента, у людей, серьёзно занимающихся изучением русской литературы, эти поиски вызывает иронию: ну, вот, опять заблудились в трёх соснах!
На самом деле, в нашем распоряжении – бесценный опыт, только руку к книге протяни и начни читать и думать! Всё уже давно открыто и многократно проверено жизнью. Причём, это не собрание холодных умозрительных упражнений, это бесценный духовный опыт лучших людей и писателей России, воплощённый в лучших образцах русской словесности. Наша русская классика – просто кладезь, чистейший источник, который как раньше, как всегда, и сегодня может напоить жаждущих и страждущих при условии, что мы придём к этому источнику, а не побредём опять недружным стадом куда-нибудь на заморский водопой.
Одним словом, я предлагаю в «Росписателе» открыть постоянную рубрику «Спроси у классика». Будем всем миром намывать золотые частицы духовного опыта для коллективного созидания той модели общественного устройства, в котором мы бы все хотели жить. Уверена, что наши филологи, литературные критики, писатели захотят поделиться написанным, накопленным и подчас не востребованным материалом. Время пришло. Надо делиться, публиковать, обсуждать, спорить. Могу предложить для начала свою статью о Чехове.
Н. Тяпугина (Леванина)»
Наталия ТЯПУГИНА (Леванина), критик, литературовед, доктор филологических наук (Саратов)
https://www.rospisatel.ru/tjatugina-chehov.html
«Человеку положено знать не всё…»
Рубрика: «Спроси у классика»
Знаете, что выгравировал на своей печатке отец Чехова, Павел Егорович, судя по сохранившимся портретам, человек красивый, открытый, прямодушный, отец шестерых детей, сочетающий любовь к церковному пению с торговлей керосином, а игру на скрипке с лавочной бухгалтерией?
Так вот, в молодости он заказал себе печатку с надписью «Одинокому везде пустыня».
Что и говорить, человек сложен и одинок по определению. Один приходит в этот мир, в одиночестве его и оставляет. А в промежутке – жизнь. У каждого своя. Со своим «вишнёвым садом» дорогих воспоминаний и «чайкой» надежд, со своим послушанием – «сахалином» и разного рода «футлярами», которыми оберегается от разнообразных «осколков». Жизнь проделывает с каждым свою любимую «шуточку»: щебет «попрыгуньи» в конце концов, оборачивается усталым выдохом: «Скучная история»!
Чем дальше, тем отчётливей чувствуешь, что всё написанное в разные годы Чеховым удивительно родственно «пёстрому» составу самой жизни. Оно банально и мудро, трогательно и смешно одновременно. Оно узнаваемо душой.
У большинства из нас ощущение, что Чехова мы знаем и понимаем. И тем не менее. Чехов скрытен и деликатен. Он не спешит с откровениями и потому оставляет возможность всё новых и новых прочтений. В особенности, когда речь идёт о последних произведениях, которые писатель, как тургеневская Клара Милич, создавал с «ядом смерти внутри».
С мучительным интересом ищешь в них «окончательные» ответы: что такое жизнь перед лицом смерти: вечный Солярис, воздающий каждому по грехам его, или период трогательного просветления, приоткрывающий какие-то неведомые доселе тайны?
Стойкое ощущение полученного, но не до конца понятого послания оставляют шедевры умирающего Чехова, произведения, давно получившие статус хрестоматийных: «В овраге», «Архиерей», «Невеста», «Вишневый сад».
Но вот что настораживает. Как-то плохо стыкуется облик жестоко страдавшего, исхудавшего и ослабевшего писателя, любящего в одиночестве смотреть на ночное ялтинское море, как врач понимающего, что дни его безнадёжно сочтены, с бодрыми призывами его героев, агитирующих сломать старую жизнь и приветствующих жизнь новую. Саша: «Когда перевернёте вашу жизнь, то всё изменится. Главное – перевернуть жизнь, а всё остальное не нужно» («Невеста»). Аня: «Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!..» Трофимов: «Здравствуй, новая жизнь!..» («Вишневый сад»)
Неужели именно это понял писатель наедине с бескрайним морем и безнадёжной болезнью? Он, в чьей судьбе случилось многое: упорный труд, семья, подвижнический Сахалин, любовь, творчество, успех…
Вот каким запомнил Чехова зимой 1903 года Борис Зайцев: «Мы толпились (на литературном вечере – Н.Т.), собирались уже рассаживаться за длиннейшим столом с водками, винами, разными грибками, икрой, балыками, колбасами, когда в дверях показалась Ольга Леонардовна. Под руку она вела Антона Павловича. Как он изменился за три года! В Ялте тоже не был силён, всё же спускался в городской сад, пил за столиком красное вино, гулял у моря.
Слабо поздоровавшись, серо-зеленоватый, со впалой грудью, был он посажен в центре этого стола, на котором всё не для него. Он почти и не ел, почти не говорил… Чехов, молчаливый и полуживой, головой выше всех, сам как-то странно отсутствующий, уже чем-то коснувшийся иного».
Не может быть, чтобы это «иное», надмирное, не отпечаталось в его произведениях. Ведь то были вещи, которые писал он, превозмогая себя, страдая от кровопотери и одышки, не находя для писания удобной позы, стремительно уставая и стоически побуждая себя к продолжению работы. Ведь не образцы же художественного совершенства творил умирающий мастер! Для него, доживающего свои земные дни, это было и малой заботой, и почти привычным делом.
Думается, что именно это – «иное», «новое», «окончательное» – и торопился оставить нам Чехов. …
Ощущение, что он живёт в полном одиночестве, будто гуляет по Луне, сложилось у Чехова давно. И это несмотря на то, что рядом почти всегда были мать и сестра, родные и друзья, литераторы и театралы. А потом ещё и любимая жена. Не было только времени. Оно, как шагреневая кожа, сжималось, вытесняя всё, не относящееся к той драме, что свершалась в нём – драме умирания. И вот уже не старость, а отдаление; не заброшенность, но одиночество; не столько жизнь, сколько боль и слабая надежда.
«Лунный свет» высвечивает то, что принято называть смыслом бытия. Под его холодным лучом отчётливо видна вялотекущая нелепость и экзальтированная глупость бездарно проживаемой жизни. Становится до обидного очевидно: люди с беспечностью насекомых тратят лучшие свои дни. И это идёт из поколения в поколение. Они грешат и делают вид, что каются (Цыбукины), мельтешат и суетятся (Пищик), как заигранная пластинка, исполняют один и тот же марш-призыв (Саша, Петя Трофимов), придумывают себе разнообразно-нелепые увлечения (мать Нади Шуминой) и т.д.
И это жизнь? Разве она соответствует тому волнующему миру живой природы, в котором после ненастной осени и холодной зимы вновь и вновь просыпаются деревья и, вечно молодые, цветущие, наполняют душу счастьем и уверенностью, что этот грешный мир не покинули ангелы небесные? А иначе зачем перед лицом вечного обновления рождается у слабого и смертного человека ощущение жизни, как «таинственной, прекрасной, богатой и святой, недоступной пониманию слабого, грешного человека («Невеста»)?
Между тем, если вдуматься, и дружный лягушачий хор, и резкий крик лесной выпи, и соловьиное неистовство есть не что иное, как попытка природы докричаться до человека, разбудить его и заставить наслаждаться каждой отпущенной ему минутой. Почему же человек не слышит этого? Отчего он так нескладно устроен, что не может всей грудью вдыхать бодрящую весеннюю прохладу и просто – радоваться жизни?
Об этот частокол вопросов бьётся мысль умирающего Чехова. Об этом и последний его рассказ – «Невеста».
Сюжет известен. Невеста Надя Шумина нервничает перед свадьбой, пересматривает свою прежнюю жизнь, примеряет новую, переоценивает жениха и, в конце концов, принимает решение – изменить судьбу: не связывать себя с бездарным и бездеятельным Андреем Андреевичем (даже имя – замкнутый круг, речи – безнадёжный штамп), а последовать советам вечного бунтаря и скитальца Саши и уехать в столицу, изменить себя, жить так, чтобы «носила судьба». И захотела она этого так сильно, что Сашины, тоже, кстати, однотипные речи, вдруг возымели над ней страшную власть, она как будто прозрела, увидев его глазами всю пыльную рутину своего существования.
Впрочем, то ли прозрела она, то ли взгляд её почему-то (многократно повторяющееся слово в рассказе, отражающее таинственную импульсивность внутренней жизни), отрезвев и лишившись любви, разглядел в родных и близких то, что позволило ей решительно разорвать со своим прошлым. В самом деле, мама из «необыкновенной женщины» превратилась в «маленькую, жалкую, глупенькую». Хозяйственная и гостеприимная бабушка вдруг обернулась тираном, заедающим чужой век. Андрей Андреевич из заманчивого жениха, «артиста», трансформировался в пошляка, лодыря и краснобая.
Надю стало мутить не только от традиционной пошлости готовящегося семейного гнездышка, – сама жизнь опостылела невесте.
Из монолога, обращённого к Саше: «Не могу… – проговорила она. – Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю! Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь…
– Эта жизнь опостылела мне, – продолжала Надя, – я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, ради Бога!»
Характерно, что Саша в свой последний приезд не сказал ничего нового (заметим, и не скажет!), а ей уже кажется, что только разрыв с прошлым и отъезд из дома откроют перед ней «нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него (на Сашу – Н.Т.), полная ожиданий, готовая на всё, хотя бы на смерть». Неожиданная добавка даже для радикально настроенной Надежды, не правда ли? – Так захотела жить, что просто смерть!
Никто из родных её в этом, конечно, не поддерживает. Мать защищается от взбунтовавшейся дочери штампами, типа «Милые бранятся – только тешатся»; банальностями, вроде «Давно ли ты была ребёнком, девочкой, а теперь уже невеста. В природе постоянный обмен веществ. И не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня». В конце концов, у неё самой вырывается то, что пытается ей втолковать дочь: «Я жить хочу! Жить!.. Дайте же мне свободу! Я ещё молода, я жить хочу, а вы из меня старуху сделали!..»
Вот такой чеховский диалог – каждый о своём и по-своему, и никто другого не слышит.
Надино исступлённое «Я жить хочу!» – побеждает. И она устремляется в «громадное, широкое будущее», поступает-таки по-своему и, бросая всё, начинает новую жизнь: едет в столицу учиться, становится свободной и самостоятельной.
Что же принесла ей свобода? Чем обернулся тот холодок восторга, который охватывал её от одного только предвкушения новой жизни?
А холодок обернулся холодом.
Она ещё больше отдаляется от всех, включая Сашу, который, спустя год, уже не кажется ей «таким новым, интеллигентным, интересным, каким был в прошлом году». Вообще она обрела какой-то новый взгляд – как бы со стороны и сверху одновременно. Этим «надмирным» взором Надя спокойно фиксирует: да, она безнадежно разломала жизнь своих близких, теперь и для них «прошлое потеряно навсегда и бесповоротно: нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости». За Надино своеволие заплачено дорогой ценой: мать и бабушка несчастны. Они теперь долго, молча плачут. На улицу совестятся выходить: как при встрече посмотреть в глаза Андрею Андреевичу и его отцу-священнику? Чувствуют они себя просто преступницами: «Так бывает, когда среди лёгкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома, окажется, растратил, подделал, – и прощай тогда навеки лёгкая, беззаботная жизнь!»
«Новую» Надю это, однако, не трогает и не беспокоит. Она хладнокровно гуляет по городу и невозмутимо фиксирует: город отжил своё, и «только ждёт не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего».
Бабушкин дом тоже состарился, просел, подёрнулся пылью. Остаётся только мечтать о том времени, когда «от этого дома не останется ни следа и о нём забудут, никто не будет помнить». Вычеркнут из памяти, как, по сути, вычеркнула его Надя, назвав родной дом «этим».
Приметой «новой» Надежды является почти полное отсутствие чувств. Даже к своему духовному наставнику Саше. Мысли о нём «не волновали её», хотя не нужно было обладать особой прозорливостью, чтобы понять: он, тяжело больной, нуждается в заботе. Приметы его угасания могли не броситься в глаза только слепому: «…было видно, что он очень болен и едва ли проживёт долго». Но даже «самый близкий, самый родной человек» вызывает у Надежды ощущение пройденного этапа: «…от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то отжитым, старомодным, давно спетым и, быть может, уже ушедшим в могилу».
Известие о его смерти Надя встретила так же, как и новость об испорченной жизни родных, – холодно и спокойно. Со стороны и сверху.
Главное – «Ей страстно хотелось жить!» – и потому ни чужая жизнь, ни чужая смерть её не трогали.
…«Послышались голоса внизу; встревоженная бабушка стала о чём-то быстро спрашивать. Потом заплакал кто-то…
Когда Надя сошла вниз (видимо, не сразу! – Н.Т.), то бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у неё было заплакано. На столе лежала телеграмма.
Надя долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка (судя по всему, не разделяя её горя – Н.Т.), потом взяла телеграмму, прочла (наконец-то! – Н.Т.).
Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеевич, или, попросту, Саша.
Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду (как положено, по-человечески! – Н.Т.), а Надя долго ещё ходила по комнате и думала». О чём же? О том, что теперь уже окончательно она здесь всем и всему чужая. А на следующее утро, «живая и весёлая», она покинула город, – как полагала, навсегда. Надя окончательно внутренне освободилась от близких, друзей, от родного гнезда. И в этом свободном парении мерещилась ей какая-то новая жизнь, «ещё неясная, полная тайн».
Невольно возникает аналогия с душой умирающего Чехова, уже почти освободившейся от оков всего бренного, сохраняющей на жизнь лишь слабую надежду. Он, как никто другой, сейчас понимал: жизнь эгоистична в своих правах. Она стремится к абсолютной свободе. Но такую свободу может дать только смерть. Вот почему последним словом чеховского рассказа о Надежде является безнадёжное «навсегда».
Обрела ли счастье Надежда? – Не в этом дело, она не счастлива, она больше, чем счастлива. Она живая! А это умирающий писатель ценит теперь превыше всего.
Чехов не осуждает Надежду, теперь он точно знает, что жизнь в своём беспощадном эгоизме всегда права. Смысл жизни – в ней самой. Оттого такое панорамное видение, такие волнующие картины вольной природы, такая тоска по неистребимой силе жизни и тайне весеннего возрождения.
А что же смерть? Что вносит она в картину жизни? – Как это ни странно, но фактически то же самое – освобождение. Свободу от тягот, боли, немощи.
…Архиерей, герой другого одноименного рассказа «позднего» Чехова, умирает от брюшного тифа. Только перед смертью обрёл он внутренний лад, «и представилось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идёт по полю быстро, весело постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!»
Но прежде, чем возникнет эта лёгкость, надо на земле до конца выстрадать всё, что тебе отпущено. И это, конечно, тоже идёт от авторского самочувствия. Тема физических страданий проходит через всё созданное Чеховым в последние годы. Она обретает характер почти невольной жалобы его человеческого естества. Многообразны приметы физической немощи, которыми писатель наделяет своих героев. Саша – «очень худой с большими глазами, с длинными худыми пальцами», он «страшный стал», «покашливает басом», «говорит надтреснутым голосом», лечится (безуспешно) кумысом, умирает от чахотки. Архиерей Пётр доживает последние дни со смертельной болезнью, изъедающей его внутренности. И всё, что он делает: служит ли всенощную или обедню на Вербное воскресенье, встречается ли с матерью или беседует с отцом Сисоем, – всё почти бессознательно обретает смысл земных итогов, всё обнаруживает свою последнюю сущность в присутствии смертельной болезни.
«И теперь, когда ему (архиерею – Н.Т.) нездоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чём просили, о чём плакали; его сердили неразвитость, робость; и всё это мелкое и ненужное угнетало его своею массою»…
Если поддаться «мелочам жизни», они уведут от самого главного, от вечного. Только в церкви «дрожащая душа» Петра успокаивалась. Здесь он получал то, чего не могли дать ему люди, в это трудное для него время «ни один человек не поговорил с ним искренне, попросту, по-человечески».
А ведь, в сущности, человеку надо так немного: чтобы живая душа разделила его горе, чтобы сердце «помягчило», как у Липы, потерявшей ребёнка и встретившей на дороге старика, который немудрёными словами выразил сражённой горем матери своё человеческое сострадание и «разговорил» её от свалившегося на неё несчастья («В овраге»). «О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому всё равно – весна теперь или зима, живы люди или мертвы… Когда на душе горе, то тяжело без людей». Совершенно очевидно, что автор не просто «озвучил» сильно чувствующую, но неразвитую Липу, – он выразил собственный ужас одинокого умирания. А оно, видимо, всегда такое – одинокое.
…Умиротворяюще действует на архиерея гармония церковного хора и самого уклада церковной жизни. Только здесь чувствует он «не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину».
Преодолевая смертельную немощь, преосвященный проводит свою последнюю службу, во время которой вдруг «бодрое, здоровое настроение овладело им». Как последний всплеск, после которого картина жизни подёрнется плотным туманом забытья. «Читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что всё те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они всё те же будут каждый год, а до каких пор – одному Богу известно».
Набирает силу чеховская мысль о том, что в пределах больших величин – в человеческом сообществе или природном мироустройстве – единичная смерть не ощутима и не значима, она затрагивает только ближайшее окружение, которое очень невелико. И то, что для человека конечно и трагично, для общего хода жизни не имеет особого значения.
Вот и после смерти архиерея наступила своим чередом Пасха, и раздался гулкий, радостный звон колоколов, продолжалось своим ходом буйство весны, люди как ни в чём не бывало развлекались на базарной площади. Одним словом, итожит Чехов, «было весело, всё благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем».
На смену Петру прислали нового викарного архиерея, и уже через месяц о старом никто, кроме матери, не вспоминал.
А если так, то, может, стоит пересмотреть свою жизнь, что-то поменять в ней местами? – Несомненно, считает Чехов. Надо сбросить всё, что мешает тебе чувствовать себя свободным и счастливым, освободить свою жизнь от суеты и бессмыслицы. Характерно в этой связи откровение преосвященного перед самой смертью: «Какой я архиерей?.. Мне бы быть деревенским священником, дьячком… или простым монахом… Меня давит всё это… давит…»
Важно направление движения – к сердцевине личности. Как ненужную скорлупу отбрасывает смерть все условности, которые наросли на человеке, добираясь до неразложимого – до его духовного ядра. Так время физического ухода становится моментом духовного возвращения.
«От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех». И что же? – Почти всхлип восторга: «Как хорошо! – думал он. – Как хорошо!»
Освободившись от того, что мучило и давило – от физической боли, тягостных обязанностей и условностей, архиерей ощутил блаженство… смерти. Перешёл в «лучший мир». Смерть как пробуждение от сна жизни.
…Получается такой парадокс: для счастья человеку нужен некий внешний толчок, способный произвести коренную – желанную, но до поры неосознаваемую перемену и в нём самом, и в его жизни. Человек должен захотеть стать иным, стать собой, настоящим. В качестве такого морального регулятора могут выступать некие скрытые жизненные силы, которые «почему-то» начинают руководить людьми, побуждая их к активному самовоплощению. Есть, однако, и другой моральный регулятор жизни. Имя ему – смерть.
Эту связку, отнюдь не умозрительно, с трезвостью медика и чуткостью художника наблюдал в себе самом Чехов. Личным опытом подтверждалась правота древних: Бог жизни и Бог смерти – один и тот же Бог.
От этого, впрочем, не намного понятней они становятся. И не только тёмной Липе («В овраге»). Чем ответить на её боль? «Мой сыночек весь день мучился … Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать, и не может. Господи батюшка, Царица Небесная! Я с горя всё так и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?» (Курсив мой – Н.Т.).
Ведь не может до конца удовлетворить ответ попа, который на поминках, вознеся вилку с солёным рыжиком, важно изрёк: «Не горюйте о младенце. Таковых есть царствие небесное».
Что и говорить, тайна – она потому и тайна, что догадываться можно, а знать наверняка не дано никому. Что в жизни, что в смерти. Живут люди, не очень задумываясь о причинах и следствиях, как говорится, попросту: «Всего знать нельзя, зачем да как… Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так что и человеку положено знать не всё, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает».
…Чеховская модель жизни явлена в семействе Цыбукиных, в котором трудолюбие перетекает в мошенничество, кротость соседствует с наглостью, миролюбие уживается с жестокостью. И тем не менее, Чехову хочется верить, что в жизни действует какой-то справедливый регулятор, воздающий каждому по грехам его. Как за изготовление фальшивых денег осуждён Анисим, так за неверно принятое решение, но уже не тюрьмой, а сумой наказан старик Цыбукин. Ему, ещё недавно богатому и уверенному, а теперь голодному и потерявшему себя, и подаёт милостыню нищая Липа. Сама же она, кроткая, терпеливая, отстрадавшая свою муку, в итоге оставлена автором свободной, открытой всей полноте жизни. «Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился и можно отдохнуть».
Хочется вслед за автором верить в высшую справедливость, в вечную жизнь, просто – верить. В его итоговых произведениях складывается определённая картина мира, из которой следует: мы нужны миру столько же, сколько и он нам; и он и мы заинтересованы в сохранении всего действительно важного и достойного. Человеку надо принимать сознательное, деятельное участие в творении добра нераздельно от других.
Трудиться надо – и увидим небо в алмазах. Этот призыв, с мистической добавкой и без, варьируется во многих произведениях Чехова. В особенности настойчиво он звучит в финале жизни: «Кто трудится, кто терпит, тот и старше» («В овраге»); «только просвещённые и святые люди интересны, только они и нужны» (Саша в «Невесте»); «Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать» (Петя Трофимов в «Вишнёвом саде»); «Надо только начать делать что-нибудь»… (Лопахин – там же) и т.д.
Этот призыв произносят у Чехова самые разные герои, включая тех, кто фактически компрометирует саму идею. Жених Нади Андрей Андреич, например: «О, матушка Русь, как ещё много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!.. Когда женимся (…) то пойдём вместе в деревню, (…) будем там работать!» и т.д.
Ужас в том, что и призыв этот сам по себе от бесчисленного (и помимо Чехова) повторения давно и прочно перешёл в разряд банальных.
В чём же дело? Неужели в поддавки с нами играет Антон Павлович? Неужто на склоне лет перестал он уважать читателя и, не рассчитывая на его сообразительность, разжевал ему то, что с нежных лет должно быть усвоено мало-мальски воспитанным человеком? – И то, и другое на Чехова не похоже. Тут, конечно, что-то другое.
Чехов понимал, что отъединённость людей друг от друга, футлярность и эгоизм замыкают их на самих себе, не выводя существование на объективный, внешний по отношению к самому человеку уровень. Между тем человек нужен другим точно так же, как и эти «другие» нужны ему. Ведь что остаётся после человека, когда его индивидуальность, его «я» уничтожится смертью? Остаётся та его часть, что ещё при жизни отпечаталась в «не-я», в других судьбах. То есть, как ни тривиально это звучит, но только труд на общее благо есть гарантия личного бессмертия, только его результаты не могут быть устранены фактом физической смерти. И других путей спастись нет.
Вот почему в человеческом сообществе всегда ценятся те, кто видит наименьшую разницу между собою и другими. Кто выполняет простейшую, на первый взгляд, но, по сути, самую трудную заповедь Христа: «Возлюби ближнего, как себя самого». Кто щедро дарит людям свой талант художника, музыканта, писателя. Кто по роду занятий служит людям – воины, учителя, врачи.
Чехов считал: мы должны уподобиться тому мусульманину, что для спасения души копает колодезь. «Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно («Записная книжка IV»).
И это не было красивоговорением для Чехова. О том, сколько школ, библиотек и больниц он открыл, мы хорошо помним. Как помним и то, что, пока физически мог, он подвижнически исполнял и свой врачебный долг, вечный «Доктор А.П. Чехов». И как бы это тяжело для него ни было, как бы ни отвлекало от литературной работы, никогда не прекращал он деятельно заботиться об «аптечках» и «библиотечках», сохраняя в поле своего внимания то, что в высоком штиле называется творением благих дел, благотворительностью, по-иному.
И в этом он, скромный и самоироничный, был неизменен. Ему претили высокие слова о гражданской и общественной мудрости, об умении отдавать всего себя на общее дело, о привычке к усиленному труду, строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах. Он просто точно знал, что иначе нельзя, что именно это – источник его нравственной бодрости и духовной крепости. То, что переживёт его.
В этой связи вспоминается одна умная сказка о том, как некий отец семейства раскрыл в своём завещании тайну клада, зарытого в саду. После смерти отца его сыновья принялись искать клад. Они тщательно перерыли всю землю. Клада они не нашли. Зато получили богатый урожай плодов. Мудрость отца, как очевидно, заключалась в том, что он косвенно побудил своих нерадивых детей к упорному труду и дал им возможность вкусить результаты собственных усилий. Это тоже сокровище, но дорогое вдвойне, ибо сокровище рукотворное, тобою сотворенное. Его нельзя растратить. Им можно пользоваться всю жизнь и испытывать не только бремя и усталость, но и чувство удовлетворения, радость от плодов и правильно проживаемой жизни. Так мифический клад, обретая очертания румяных земных яблок, становится важнейшим жизненным принципом.
… В творческом завещании Чехова не только завлекательное обещание клада в виде неба в алмазах, но и чёткая инструкция: как, где и для чего копать. Судьба самого Чехова есть лучший аргумент, побуждающий к этому. Он остался с нами, перешагнув границу ХХI века. А в долгом путешествии во времени человечество, как известно, берёт с собой лишь самое необходимое.
Тяпугина (Леванина) Наталия Юрьевна – прозаик, литературовед, литературный критик. Член Союза писателей России. Доктор филологических наук, профессор.
Автор более двухсот научных, литературно-критических и художественных работ. Публиковалась в журналах «Москва», «Октябрь», «Дон», «Волга», «Волга – XXI век», «Наш современник», «Литература в школе», «Женский мир» (США); «Крещатик» (Германия – Украина), альманахах «Саратов литературный», «Краснодар литературный», «Другой берег», «Мирвори» (Израиль), «Эдита» (Германия) и др.
Победитель конкурса «Росписатель» в номинации «Критика» в 2019 и 2021 гг. за статьи: «Жизнь, длиною в песню»: о творчестве В.М. Шукшина, «Сергей Потехин – поэт, отшельник, инопланетянин» и «Горящая головня, летящая по ветру»: о поэзии Виктора Лапшина.