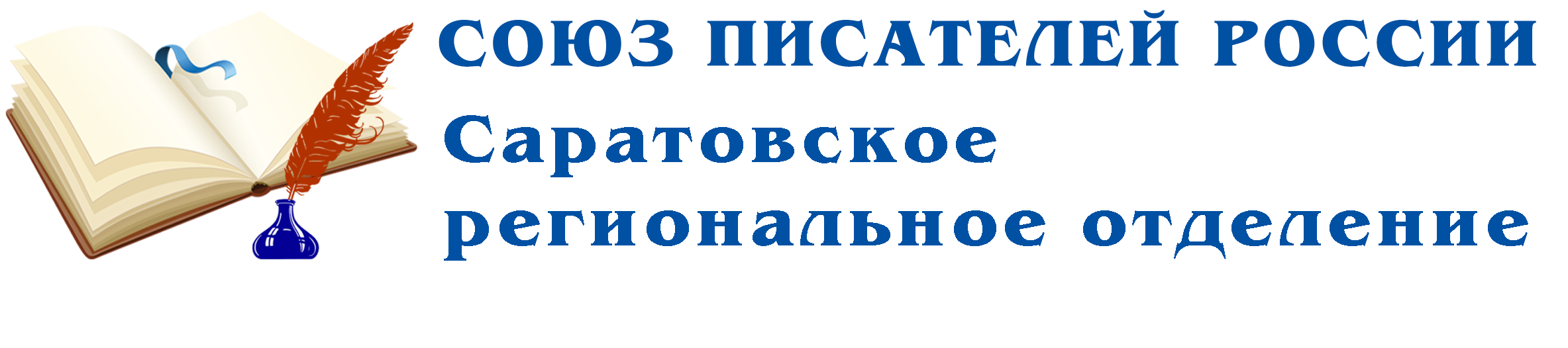Рубрика «Спроси у классика»
Русскому человеку свойственно особое отношение к Слову, оно и требовательное, и глубоко доверчивое. Вот почему с ним связывали свои самые капитальные надежды Гоголь и Достоевский, Толстой и Салтыков-Щедрин.
Как неизменно радостное откровение — евангельская формула: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А русскому народу был наказ: «Живи по Слову. Да спасёшься Словом». Выполняем ли мы его? Может, потому и отступилась от нас слава, что Слово мы покалечили? Что забыли предупреждение наших гениальных предков, остерегающих нас от кощунственных игр со Словом?
Ощущение божественной природы Слова ушло из выхолощенной атеизмом жизни, ушло оно и из наших словарей. Если В.И. Даль в своём «Толковом словаре живого великорусского языка» писал о слове как об «исключительной способности человека выражать гласно мысли и чувства свои; даре говорить, сообщаться разумно сочетаемыми звуками; словесной речию» (т. 4), – то есть соединил в слове Божий дар с исключительно человеческими возможностями, подкрепляя свою формулировку убедительными афоризмами, типа: «Человеку слово дано, скоту немота», «Слово есть воссоздание внутри себя мира», – то в современном «Словаре русского языка» С.И. Ожегова слово низведено до уровня информационного кирпичика, коммуникативной гаечки. Теперь слово – это лишь «единица языка, служащая для называния отдельного понятия». Приводятся и семь других значений (разговор, выступление, общение, текст и др.), но ни в одном из них нет даже намёка на божественную природу Слова.
Но может быть, заблуждались наши предки, а мы своим трезво-рациональным умом постигли самую суть языка? И вообще, где доказательства божественного происхождения Слова?
В памяти тут же почти невольно всплывает урок булгаковского «профессора», который «поманил обоих (Берлиоза и Бездомного. — Н.Т.) к себе и, когда они наклонились, не без лукавства прошептал:
— Имейте в виду, что Иисус существовал.
— Видите ли, профессор, — принуждённо улыбнувшись, отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.
— А не надо никаких точек зрения! — ответил странный профессор. — Просто он существовал, и больше ничего.
— Но требуется же какое-нибудь доказательство… — начал Берлиоз.
— И доказательств никаких не требуется, — ответил профессор».
Вот и тут доказательств никаких не требуется…
…Существует в русской литературе роман, который с неопровержимой достоверностью показал деградацию зажиточного семейного клана по причинам исключительно морального порядка. Причем в постигшей это семейство «эпидемии умертвий» не последнюю роль сыграли такие свойства его членов, как пустословие, лицемерие и словоблудие. То есть пороки, напрямую связанные с насилием над словом. Это роман Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».
Будто проклятие висит над домом, где глава семьи, Владимир Михайлович Головлёв, прозванный суровой его женой, Ариной Петровной, «ветряной мельницей» и «бесструнной балалайкой» за словесные упражнения в жанре «вольных стихов», аттестованных ею, как «паскудство и паясничанье», в конце своего жизненного и «творческого» пути элементарно дичает.
Финал отца повторится в судьбе сына — Степки-балбеса, который, проведя жизнь, «исполненную кривлянья, бездельничества, буффонства», в конце её одержим лишь одной страстью — «позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться в волну забвения, чтоб и выкарабкаться из неё было нельзя». Водка и болезнь привели к тому, что скоро превратился он в бессловесное существо, мозг которого «вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему».
И брат Степана, Павел Владимирович, к концу жизни тоже погрузился в фантасмагорию, в которой главными героями были он сам и ненавидимый им брат Порфишка: «Словно живой, метался перед ним этот паскудный образ, а в ушах раздавалось слезнолицемерное пустословие Иудушки, пустословие, в котором звучала какая-то сухая, почти отвлечённая злоба ко всему живому, не подчиняющемуся кодексу, созданному преданием лицемерия» (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. – М., 1972. – Т.8. – С. 66. Далее цитаты из романа приводятся по этому изданию с указанием страницы в тексте).
Причем ужас от ядовитого словоблудия ненавистного Порфишки был столь силен, что превратился в смертный кошмар Павла. И когда реальный Иудушка объявился у постели умирающего, больной пришёл в такой неописуемый ужас, что почудилось ему, будто «он заживо уложен в гроб, что он лежит словно скованный, в летаргическом сне, не может ни одним членом пошевельнуть и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его» (79).
Степан ещё в детстве прозвал своего брата Иудушкой, Кровопивушкой и Откровенным мальчиком. Очень точно схвачена в этих прозвищах изуверская сущность Порфирия, который с ранних лет, зная, кто в семье главный, «любил приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать её в плечико, а иногда и слегка понаушничать».
При этом и обожаемая визави тоже ощущала в послушном сыночке нечто жутковатое: «…взглянет — ну, словно вот петлю закидывает. Вот так и поливает ядом, так и подманивает!»
Власть Иудушки над семейством можно назвать гипнотической: все понимали, что он лжёт и притворяется, но ничего не могли противопоставить его «чарующему яду», который заползал в душу и парализовал волю.
Словесные силки, расставляемые Иудушкой для чад и домочадцев, побуждают их искать всевозможные пути спасения. Конечно, все по мере сил пытаются избежать общения с этой занудной липучкой, чтобы просто не участвовать в безнадёжной Иудушкиной канители. Но если миновать этого нельзя, то, защищаясь, отчаянно пытаются они ответным словом пробить гангренозную суть его речей. Вот и умирающий Павел так пронзительно, из последних сил выкрикнул Порфирию: «Кровопивец!» — что даже тот, наконец, что-то почувствовал, его «словно обожгло».
И Арина Петровна, наблюдая, как любимый сыночек Порфиша, обобравший её до нитки, продолжает с ясным взором калякать с нею, со своим «милым другом маменькой», — всё решительней и твёрже повторяет про себя: «Прокляну! Прокляну! Прокляну!»
«Убийца!» — настойчиво твердит Иудушке его сын Петенька, точно определяя роль отца в судьбе своего старшего брата Володеньки и в своей собственной судьбе тоже. И это прямое обвинение заставляет неуязвимого Иудушку дрожать от волнения.
Но всё это акты словесной агонии, взрывы последнего отчаяния со стороны многочисленных Иудушкиных жертв. А вообще паскудно-благостная вербальная маска, нацепленная на себя Порфирием Головлёвым, надёжно прикрывает то, что, живя среди людей, обнародовать невозможно, позорно, стыдно. Лицемерное лицедейство Порфиши скрывает отсутствие под маской человека. Нет у него ни любви, ни заботы, ни сочувствия. Даже он понимает: обнаружить эту сатанинскую пустоту, эту выжженную пустыню нельзя. Вот тогда появляется маска любящего отца, заботливого сына, справедливого брата, гостеприимного дяди. И лепится эта маска грязными головлёвскими руками из слов и афоризмов, которые народ копил и оттачивал веками.
Паразитируя на народной мудрости, Иудушка лишает её живой сути, омертвляя всё, к чему прикасается. «Он ко всему готов заранее. Он знает, что ничто не застанет его врасплох, и ничто не заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с ног до головы. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир, в его глазах, есть гроб, могущий стать лишь поводом для бесконечного пустословия».
То, что в Иудушке есть что-то сатанинское, первой поняла мать, его родившая, и в минуты гнева именно этот образ первым приходит ей на ум — отсюда и много лет вынашиваемый замысел проклятия сына.
Намёки на дьявольскую природу героя сопровождают образ Порфирия на протяжении всего романа. Так, приехав к занемогшей матери в Погорелку, он тут же начинает делать распоряжения о похоронах, и Щедрин как бы вскользь замечает: «…у него насчёт покойников какой-то дьявольский нюх был».
После смерти матери и сына Петеньки прислуга Иудушки «почти совсем забросила дом, а являясь в господские комнаты, ходила на цыпочках и говорила шёпотом. Чувствовалось что-то выморочное и в этом доме, и в этом человеке, что-то такое, что наводит невольный и суеверный страх».
«Страшно с вами!» — крикнет, вырвавшись из удушающих родственных объятий, племянница Аннинька.
То же повторит взбунтовавшаяся сожительница Евпраксеюшка, родившая Порфирию ребёнка.
И перед многоопытной приживалкой Улитушкой неоднократно мелькнёт призрак сатаны, когда вначале Порфирий «брезгливо отвернул своё лицо» от собственного младенца; свою сожительницу обвинил в прелюбодеянии, а новорождённого сына отправил в какой-то воспитательный дом, а точнее — на тот свет, сопроводив очередное преступление обильным словоизвержением: «А мне хочется, чтоб всё у нас хорошохонько было. Чтоб из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел. И Богу слуга, и царю — подданный. Коли ежели Бог его крестьянством благословит, так чтобы землю работать умел… Косить там, пахать, дрова рубить — всего чтобы понемножку. А ежели ему в другое звание судьба будет, так чтобы ремесло знал, науку… Оттуда, слышь, и в учителя некоторые попадают!»
Не сбила его и Улитушкина ирония: «Из воспитательного-то? Прямо генералами делают!»
Судьба младенца была решена. Произошло очередное головлёвское умертвие под безумно-бессмысленный словесный аккомпанемент.
Так ради чего все эти жертвы? Чего же добивался Иудушка своим убийственным фарисейством? — Абсолютной власти над ближними. Не только материального, но и духовного верховенства. Роли учителя жизни, который знает ответы на все житейские вопросы.
Его поучения с течением времени приобрели цепкость силка и обилие потопа. Они отработаны годами и пригодны ко всякому случаю, и при этом «даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей, ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже на требуется: они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов и появляются на свет Божий по мере того, как наползают на язык».
И вроде бы всё сработало. Порфирий добивается своей цели: становится единовластным собственником всего головлёвского добра, главным помещиком во всей округе. Вот только с улавливанием душ ничего у него не вышло. Души эти, несмотря на жирный головлёвский «кусок», не желали быть в закладе. Словесное шаманство Иудушки отпугивает даже самых неискушённых и зависимых. Постепенно вокруг него образуется мертвая зона. Творец словесных призраков стал их пленником.
Агония Иудушки началась с того, что утратился «ресурс празднословия». Агрессивное словоблудие, лишившись свежих жертв, перешло на самого Порфирия. И начался неудержимый распад личности, описанный Щедриным ужасающе реалистично: Иудушка «с утра до вечера изнывал над фантастической работой: строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом».
Постепенно исчезла надобность и в этом. Вот тогда и разбушевалась в Порфирии разрушительная головлёвская стихия. В полном одиночестве, в диком экстазе этот словесный вампир предаётся тому, что одно ему по-настоящему мило: «Он любил мысленно вымучить, разорить, обездолить, пососать кровь».
И здесь его дьявольская природа являла себя в полной мере: «Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения; земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало угрожающее выражение. И, по мере того как росла фантазия, весь воздух кругом него населялся призраками, с которыми он вступал в воображаемую борьбу» (217).
Человек, который кощунственно посягнул на Слово, который приспособил его к своим низким целям, не мог оставаться безнаказанным: слишком велика была мера святотатства, слишком дерзкий вызов бросил он Богу и людям. И наказание последовало.
Действительность скрылась от Порфирия. Кто-то погрузил его в мягкую, обволакивающую, как болотная тина, лень. Им овладела нравственная анемия. Всё потеряло свои чёткие границы, какие-то призраки мягко, но неотвратимо заслонили действительную жизнь. Словесный морок трансформировался в гипнотическое оцепенение, окончательно разлучая Иудушку с реальностью.
И если сам он поначалу счастлив от этих наркотических чар, то простодушной Евпраксеюшке, увидевшей его через некоторое время, «сделалось жутко». Она бросается к барину в испуге, однако на все её вопросы: «Батюшка! Что такое? Что случилось?» — он отвечает уже с другой стороны, где ни уязвить, ни тронуть его просто невозможно, и потому в ответ Порфирий только «глупо-язвительно улыбнулся».
Как же такое могло произойти? Почему богатое родовое гнездо Головлёвых превратилось в смрадное пепелище, а его главный владелец в недочеловека?
Щедрин ищет и находит ответы на них. Есть очевидные причины: злополучный фатум витал над этим семейством потому, что всегда пуста и бессодержательна была их праздная господская жизнь, что не пригодны были господа Головлёвы ни к какому делу. Положение не спасла и мать семейства – рачительная Арина Петровна, которая «не только не передала своих качеств никому из детей, а, напротив, сама умерла, опутанная со всех сторон праздностью, пустословием и пустоутробием».
Были и другие причины. У Головлёвых будто существовала какая-то мощная, генетически запрограммированная тяга к абсолютной пустоте, в которой жизненные проблемы вначале заглушаются, а потом и упраздняются вместе с самой жизнью. Многочисленные пьяные умертвия Головлёвых — это логически закономерный финал, где вино — лишь катализатор, следствие, но далеко не причина. И Порфирий в этом лишь последовательно повторяет судьбу своих сородичей.
Однако грех Иудушки неизмеримо больше и страшнее. Много жертв на его личном счету. Фарисейство иссушило, разрушило его душу, и кажется, что ужасный его финал – смерть на обочине дороги – это закономерный итог, справедливое возмездие за содеянное. Собаке – собачья смерть.
Но у Щедрина всё сложнее. Жизненный финал Иудушки — это ещё, как ни странно, и последняя попытка его очеловечивания. За высохшую, покорёженную душу Порфирия начинают бороться силы, не обнаруживавшие себя до последнего момента. И конечно, такие запоздалые пробуждения одичалой совести не могут не быть мучительными.
Писатель почти диагностирует: «Лишённая воспитательного ухода, не видя никакого просвета впереди, совесть не даёт примирения, не указывает на возможность новой жизни, а только бесконечно и бесплодно терзает. Человек видит себя в каменном мешке, безжалостно отданным в жертву агонии раскаяния, именно одной агонии, без надежды на возврат к жизни. И никакого иного средства утишить эту бесплодную разъедающую боль, кроме шанса воспользоваться минутою мрачной решимости, чтобы разбить голову о камни мешка…» (257)
Каждому по делам его… И запоздалое, неумелое прозрение Порфирия Головлёва делает это наказание ещё суровей и неотвратимей.
Но писатель и сам уподобился бы своему герою, если бы с холодным сердцем подписал ему безжалостный приговор.
Пушкинский завет: «И милость к падшим призывал» — неизменно осеняет всю русскую классическую литературу. И в этом романе сурового Щедрина сохраняется понимание того, что любой человек создан по образу и подобию Божию, в том числе даже и такой, как выморочный Иудушка. А потому перед лицом смерти автор не лишает этого героя попытки покаяния.
Но возможно ли, уместно ли такое? Способен ли душегуб и «кровопивец» к раскаянью? Могли ли сохраниться в выжженной пустыне его души хрупкие ростки человечности?
…Небольшое отступление. Есть такая книга — «Словарь к творениям Достоевского». Её в начале прошлого века написал известный митрополит Антоний (Храповицкий). В этом «Словаре» много всего интересного, но есть там одна мысль, на которой сейчас хочется остановиться. Митрополит категорически советовал людям не лгать, особенно самим себе, потому что «порочная жизнь невозможна без постоянного самообмана, и потому она почти всегда, или даже всегда, сопровождается наркозом — преимущественно пьянством; такое средство легче отыскивает оправдание для всякого гнусного дела…»
Между тем митрополит был убежден: в душе люди лучше, чем их поведение, и что если бы они проверяли свои минутные намерения и действия более глубокими и постоянными стремлениями своей души, то не опускались бы ниже и ниже, и не давали бы окончательно зачерстветь своему сердцу». Вот так: в душе мы все лучше.
Но вернёмся к финалу «Головлёвых».
Конечно, опыта нравственной жизни не было у Порфирия, и «было бы преувеличением сказать, что… в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием». «Смута» эта была тем непереносимей, что была она итоговой, непоправимой. А беспощадные обвинения «племяннушки» Анниньки изо дня в день проявляли всё более точный смысл происшедшего в их семействе.
Из разговоров с ней прояснялось главное: в головлёвском архиве «умертвий» именно ему, Порфирию, принадлежит главная роль.
Эта последняя правда однажды вдруг со всей очевидностью открылась и самому Иудушке. Она повергла его в смятение, стала ощущаться им как живая, неодолимая сила, которая не просто может, но и вправе раздавить его многогрешную душу. Справедливость возмездия поселилась в его испуганно-прозревшем сознании: «Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемою завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если б ещё оно взаправду раздавило — это было бы самое лучшее; но ведь он живуч, — пожалуй, и выползет. Нет, ждать развязки от естественного хода вещей — слишком гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильною смутою».
Иудушка, подавленный содеянным, истинно страдает. Он, как раненый зверь, мечется по комнате, ищет выход, выпрашивая прощение у последней из Головлёвых. Он доводит Анниньку до истерики впервые появившимися у него человеческими словами и интонациями: «Бедная ты! бедная ты моя! — произнёс он тихо».
Его страдания кажутся ему сопоставимыми с мучениями распятого Христа: «…ах, какие это были страдания! Ведь только этакими страданиями и можно… И простил! всех навсегда простил!» И в своей последней просьбе он умоляет: «Надо меня простить!.. за всех… И за себя… и за тех, которых уж нет…» После этого как пелена пала с его глаз: «Что такое! что такое сделалось?! Где все?..» (261)
Отныне Порфирий, перемещённый в иную систему координат, живёт, как сомнамбула, послушно выполняя то, что ему кем-то неведомым предписывается. Так возникло неодолимое желание: «“Надо на могилку к покойнице маменьке проститься сходить…” При этом напоминании ужасное, томительное беспокойство овладело всем существом его <…> Трудно сказать, насколько он сам сознавал своё решение <…> Порфирий Владимирыч шёл по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра и только инстинктивно запахивая полы халата».
Утром труп закоченевшего барина был найден на стылой мартовской обочине.
И это потрясает. Трагическое звучание финала раздвигает рамки семейно-бытовой хроники и возвышает роман до христианской Притчи о Блудном Сыне. Ушедший из христианского лона, нарушивший все существующие заповеди, Иудушка ценой раскаяния и собственной жизни обретает право на наше сочувствие. Сильнейший финал романа позволяет говорить о Щедрине не только как о бескомпромиссном сатирике и суровом учителе жизни, но и как о гуманисте-просветителе, умеющем разглядеть даже в самом порочном существе его человеческую сущность. Или её остатки. А это, думается, труднее всего.
Тяпугина (Леванина) Наталия Юрьевна – прозаик, литературовед, литературный критик. Член Союза писателей России. Доктор филологических наук, профессор.
Автор более двухсот научных, литературно-критических и художественных работ. Публиковалась в журналах «Москва», «Октябрь», «Дон», «Волга», «Волга – XXI век», «Наш современник», «Литература в школе», «Женский мир» (США); «Крещатик» (Германия – Украина), альманахах «Саратов литературный», «Краснодар литературный», «Другой берег», «Мирвори» (Израиль), «Эдита» (Германия) и др.
Победитель конкурса «Росписатель» в номинации «Критика» в 2019 и 2021гг. за статьи: «Жизнь, длиною в песню»: о творчестве В.М. Шукшина, «Сергей Потехин – поэт, отшельник, инопланетянин» и «Горящая головня, летящая по ветру»: о поэзии Виктора Лапшина .
Художник Виктор Бритвин (Чебоксары), илл. к роману М.Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы", акварель, 2010 г.