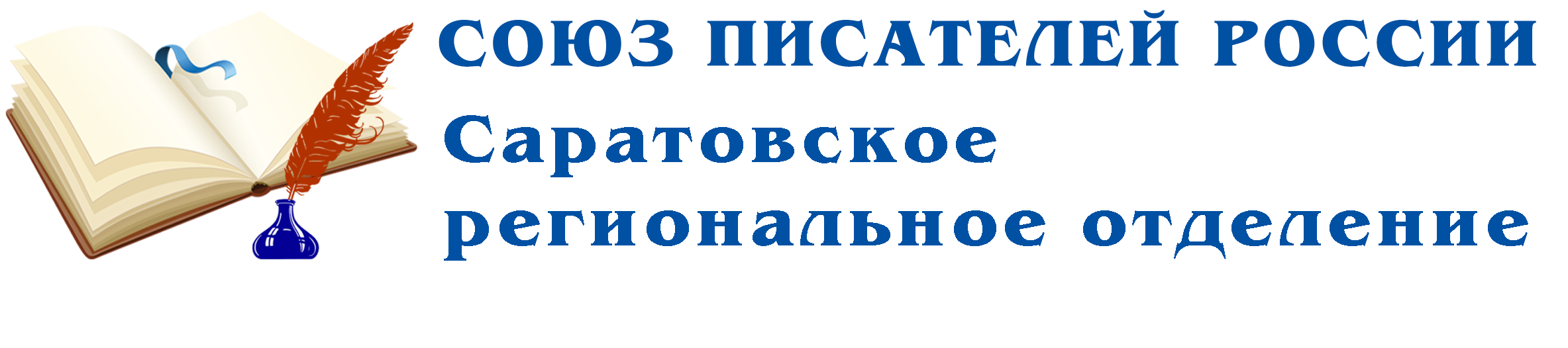Газета «Российский писатель» опубликовала острополемическое эссе члена Союза писателей России, доктора филологических наук, лауреата Международной премии им. И. А. Гончарова Ивана Владимировича Пыркова. Многие сайты и порталы его перепечатали. На этой странице вы можете прочесть текст с сокращениями, полная версия по ссылке на публикацию: https://rospisatel.ru/pyrkov-bukvy.html
БУКВЫ
«...как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?»
Тургеневский вечный вопрос. И его же вечный ответ: спасителен русский. Внешне выцветшая от школярских истолковок, затёртая до прорех, обсмеянная и опошленная, мысль писателя сберегла, оказалось, внутренний свет.
Я же хочу сказать не столько о языке (куда мне!), сколько самых о мельчайших его вечных странниках – буквах. Мы редко думаем об этом, но живём на фоне алфавита. Аз и Буки, Добро и Глагол. А ещё и Живица, жизнь утверждающая. Сиятельный князь Мышкин – любимый герой Достоевского – 155 лет назад, в ноябре 1867-го, прежде чем проявиться в жизни, проявляет себя в букве. Он каллиграф, он чувствует гармонию буквенного строя как никто другой.
«Вот это, – разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, – это собственная подпись игумена Пафнутия, со снимка четырнадцатого столетия. Они превосходно подписывались, все наши старые игумены и митрополиты…»
Подпись – это всегда некая печать, тайна, проявление тайнописи. В ней скрыт человек, но не чтобы сокрыться мог, а чтобы собой остаться сумел. Никто никогда не думал о русской истории в подписях? Ну, примером, разделённые веками приложения руки митрополита Филиппа и митрополита Вениамина – могут сказать больше, чем целые исторические учебники. И в росчерке опального и непреклонного Никона тускло вдруг проблеснут таинственные воды древней и прекрасной, как наша речь, реки Которосли…
А вот другая подпись и другие буквы. На гончаровского Обломова, на его диван-бастион, охраняемый Ильёй Ильичом от реального и необратимого времени, от исторического, так сказать, прогресса, надвигается неровный, разрозненный и всё же неотвратимый буквенный порядок. Дело в том, что Обломов получил на днях письмо из родного поместья, от старосты-управляющего. Плута ещё того, конечно же. Плохие вести пришли из родной Обломовки.
«Пятую неделю нет дождей: знать, прогневали Господа Бога, что нет дождей… Озимь ино место червь сгубил… А под Иванов день три мужика ущли… Холста нашего на ярмарке сей год не будет… В недоимках недобор: нынешний год пошлём доходцу, будет, батюшка ты наш, благодетель, тысящи яко две помене против того года…» Вдобавок письмо заканчивается странной подписью, оставляющей, так сказать, некоторый простор для манёвра. «Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин собственной рукой руку приложил». За неумением грамотности поставлен был крест. «А писал со слов оного старосты шурин его, Дёмка Кривой». Не депеша прямо, а такое вот кривое зеркало. Да ещё про буквы Гончаров мимоходом, как это он умеет, сообщает, что писано оно было «точно квасом, на серой бумаге», что оно «с печатью из бурого сургуча». И ещё: «Огромные бледные буквы тянулись в торжественной процессии, не касаясь друг друга, по отвесной линии, от верхнего угла к нижнему. Шествие иногда нарушалось бледно-чернильным большим пятном».
Для Обломова вызов серьёзный, особенно если вспомнить, что он и сам существует в системе буквенных координат, противопоставляя, в символической перебранке с Захаром о «других», первую и последнюю буквы русского алфавита: « – А я? Ну-ка, реши: как ты думаешь, «другой» я – а?» И как решить? И куда, скажите на милость, деваться от угрожающей буквенной процессии, как, по-тургеневски говоря, не впасть в отчаяние? Поневоле выберешь, следуя обломовскому мироисчислению, сияющий добрым солнышком былого сон…
Интересно, писал ли гоголевский Башмачкин, самый маленький мегачеловек нашей словесности, ведущий своё литературное происхождение, быть может, от преподобного Акакия Синайского, после того, как стал призраком? Да, генеральская шинель оказалась ему по плечам, и да – он, невидимый и неслышимый при жизни, но прогремевший и просиявший после смерти, навсегда, кажется, исчез где-то в питерской ночи за Обуховым мостом. Но – продолжал ли склоняться, хотя бы в мысленной голограмме, над бумагой в предвкушении выведения – рождения! – буквы. Он ведь и сам родился (лучше сказать «произошёл», конечно») и наречён был подобно букве, по отголоску имени и отчества отцова. И спасён – то есть убережён от небытия – гоголевским был пером. Так поминал ли про письмо и про написание он там, за сумрачной границей, куда нет пути ни значительному лицу, ни напуганному «обыкновенным взрослым поросёнком» коломенскому будочнику?
Башмачкин не пишет – что за банальность? Нет, он переписывает! От того же, как переписать, зависит многое. Примерно всё. Важно ведь, не что написано, а как. Это и про словесность. И про жизнь. Да и кто разберёт, где граница? У языка, у буковок, в каждую эпоху своё предназначение.
Гениальный Чаадаев потерял однажды верхнюю одежду, в конце земного пути, будучи, почти как Башмачкин, одинок и сир. И написал письмо некоему чиновнику Плещееву, в котором выразил надежду на помощь в нахождении пропажи: «Позвольте, Ваше превосходительство, прибегнуть к покровительству Вашему, в несчастном случае, меня постигшем. 26-го числа, в 11 часов вечера, выронил я из дрожек на Трубном бульваре новый, с иголочки, пальто-жак; проискавши его до полуночи, вернулся домой с горестным сердцем. На другой день, к несказанной радости моей, узнаю, что он найден фонарщиком. Нынче посылаю за ним в пожарный Депо, с 3 рублями награды великодушному фонарщику. Там объявляют посланному, что пальто отправлено в канцелярию г-на оберполицмейстера; туда спешит он и узнаёт, что до четверга не получу своего пальто. Войдите, Ваше превосходительство, в моё положение, сжальтесь над моей наготою, и милостивым представительством Вашим перед его Превосходительством, возвратите мне, если можно без нарушения закона, мой бедный пальто…» Чем не пародия на смиренно-бунтарский слог Акакия Акакиевича – последняя и, может быть, сильнейшая шутка автора легендарных «Философических писем».
Буквы Чаадаева, изящные и лёгкие по молодости, небрежно-раскованные, как танцевальные «па» (Пётр Яковлевич слыл великолепным московским танцором когда-то), укрупнились и как бы остановились взглядом с годами. Как вспоминал Герцен, Чаадаев смотрелся грустным упрёком «на линючем и тяжелом фоне московской high life… середь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почётного ничтожества...»
В удивительном интервью Сергею Петровиче Капице академик Андрей Зализняк, великий исследователь берестяных грамот, в 2009 году сказал потрясающую вещь о письмах в новгородской культуре и вообще о нашей лингвистической ментальности в исторической проекции: «Роль женских писем в составе всего комплекса писем не нарастает со временем, а убывает. Самая большая интенсивность женской переписки – в древние века». А далее Зализняк говорит о том, что слово «господин» в берестяных грамотах, напротив, начинает писаться всё чаще и чаще. Роль женщин убывает со временем, в постновгородском мире, а употребление письменного обращения «господин» стремительно набирает обороты. И это взаимосвязанные процессы. То есть, получается, буквы отзеркаливают историю о том, как меняется самосознание нашего общества, спешащего выстроиться по сословной градации. Мужчины любят вертикали…
С ними так, с буквами-то-буквицами. Сложишь какое-нибудь слово из них, напишешь его пару раз – вот и судьбу свою сладил. Во всяком случае, Чернышевский, аккуратным детским почерком переписывающий раз за разом, под диктовку отца-священника, поговорку-максиму «Честный человек всеми любим» определил тем самым, вполне может так статься, своё будущее.
Только вот всеми ли? И любим ли?
Без цветных кубиков, подаренных ему в детстве сельским учителем, Набоков, возможно, не проник бы в тайны русского и английского алфавитов, не создал бы свои летучие «цветовые балаганы». И подумалось вдруг: что если исключить свет и цвет нравственности из, как бы это сказать, азбуковников отечественной культуры? Тогда уже, кажется, точно пути назад не будет. Владимир Даль говорил: «Русской речи предстоит одно из двух: либо испошлеть донельзя, либо, образумясь, своротить на иной путь, захватив притом все покинутые второпях запасы».
Сегодня страшно смотреть, как бессмысленно тиражируются пустые сочетания букв. До времени пустые. Раз, два и три повторившись, оболочки эти начинают заполняться чем-то ядовитым, человеконенавистническим. Лишь одного примера хватит. Множа слово «уничтожить», иногда даже с восклицательным знаком, бездумно или запальчиво швыряя его в новостные ленты, мы, почитатели Пушкина и Тургенева, Гончарова и Гоголя, формируем в головах людей, особенно молодых, совсем ещё юных, философию разрушения. Причём более внутреннего, в душах происходящего, нежели внешнего. И это очень-очень серьёзно. Тут даже не в политике дело, Боже упаси! Тут дело в психологии языка. А значит – общественного мышления. Штука вот какая: буквы не всё ангелы, они могут быть хитрыми и лукавыми бестиями, их не проведёшь, скорее они проведут тебя. И нельзя будет просто взять и сказать однажды – баста, с сегодняшнего дня начинаем созидание. Не получится. Не в нынешнем информационном мире, где слишком сильна языковая инерция. Поэтому всякое слово человечности, гуманности, бережного отношения к жизни сегодня – гражданский поступок. И на писателях, как наивно, но неизменно и непреклонно полагаю, лежит ответственность огромная. Пусть я не прав, но искренне считаю, что художнику слова не гоже усиливать раздоры и указывать на вражье семя. Есть миссии и поважнее.
Впадать в отчаяние не за чем – прав Тургенев. Ведь у нас есть буквы. У нас есть правдивый и свободный русский язык. Надеюсь, что он – и в этом его теперешнее предназначение – станет миротворцем в наше трагическое время.
Иван Пырков, член СП России, доктор филологических наук, профессор, лауреат Международной премии им. И. А. Гончарова, Всероссийской премии им. М. Н. Алексеева, премии Российского общества «Знание» Просветитель года