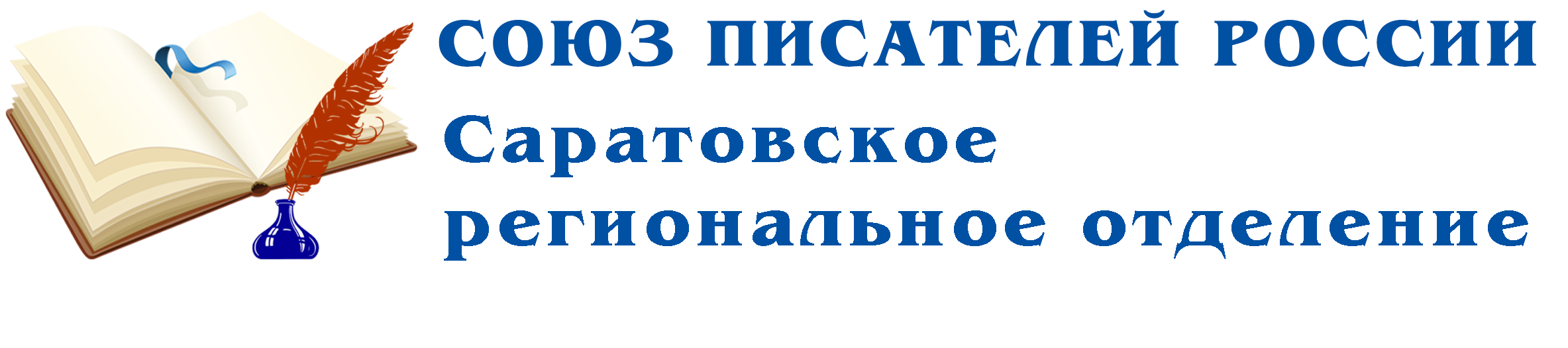Светлой памяти Адольфа Андреевича Демченко
В самом начале сентября, когда начинается учебный год и прочие хлопоты, я обычнопробегаю мимо Чернышевского. В Саратове памятник ему стоит в самом центре, близ парка «Липки», называвшегося в девятнадцатом веке «общественным садом».Это получается само собой – мимо пролегают мои рабочие маршруты. Но Чернышевский для меня июльский писатель, летний.
Родился в июле, и первую букву, под диктовку отца, протоиерея Гаврилы Ивановича, вывел торжественно в июльский денёк, в родном флигеле на Сергиевской, и про несравненную свою Ольгу Сократовну – Волгу Саратовну, как её звали, шутя, родные за любовь к Волге – видел освещённой не июльским ли добрым солнышком? Ольга, она для Николая Гавриловича «не блеск молнии… не волнующее сияние солнца… не знойный июльский день в Саратове…», а«вечная сладостная весна Хиоса». Но возразите мне, что «не» здесь – лишь отрицание! А было ещё и такое, переправленное с весточкой из далёких-далёких тёмных и бесконечно зимних ссылок, признание: «…озарена Тобою жизнь моя».
Нет, это я субъективно, конечно. Разве отменить «10 мая, час пополудни», время, когда началась защита магистерской диссертации Чернышевского – да уж, потешился диссертант над учёными сухарями вроде Плетнёва или Никитенко. Для них, людей высочайшей образованности и блестящего, конечно, литературного таланта, эстетика Гегеля была священна. Да ведь и для Чернышевского – тоже. Просто он посмел отнестись к вечным законам гармонии как живой человек в живом изменчивом времени. И доказал, что жизнь и искусство взаимозависимы. («Поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия» – помните максиму гончаровского Обломова? Любопытная тут параллель, правда?) Или – зачем же всё о книжностях? – позабыть ли про январские салазки, мчащиеся по Бабушкиному взвозу вниз, к Волге, и отчаянно лавирующие там меж полыньями? А не салазки – так просто бочка, взятая «напрокат» (в буквальном смысле) у водовозов и ловко скользящая с ватагой мальчишек, возглавляемых Чернышевским, всё по тому же рискованному маршруту. Вот вам и «Николя», вот вам и близорукий «библиотечный мальчик», вот вам и «библиофаг» – «пожиратель книг». Да что вы! Чернышевский в юности был отличным гребцом, смело шёл на вёслах против настоящего волжского – не то что сейчас! – течения.
Так и хочется бросить по-журналистски эффектно: он-де всегда шёл против течения. Но лучше просто промолчу, остановлюсь на секунду у застывшей навеки бронзовой фигуры-громадины. Впрочем, застывшей ли? В монументальной бронзе вдохновенной кибальниковской работы есть какая-то необъяснимая летящая красота, разбежка мысли, порыв мечты. Чернышевский – он такой! Независимо скрещенные на груди руки,живой взгляд… Может, всё дело в магии места? Ведь именно здесь, в общественном саду, так любливал прохаживаться Николай Гаврилович, вернувшись наконец-то в родной Саратов. Здесь, неподалёку, и жил он – дом на Соборной, небольшая квартира во втором этаже. Планов было на годы – и словарь составить, и в местных газетах рубрики вести (под псевдонимом, ясно, чтоб никого не подставлять), и архив Добролюбова упорядочить… А жизни отпущенной оставалось – лишь месяцы. С июля – опять с июля! – и по октябрь…
Короленко впервые увидел Николая Гавриловича тогда, в то последнее саратовское лето и затвердил в памяти: «…когда я взглянул ему в лицо, – у меня как-то сжалось сердце: таким это лицо показалось мне исстрадавшимся и изможденным под этой прекрасной молодой шевелюрой.Всущности он был похож на портрет, только черты его, мужественные на карточке, были в действительности мельче, миниатюрнее, – по ним прошло много морщин, и цвет этого лица был почти землистый. Это желтая лихорадка, захваченная в Астрахани, уже делала своё быстрое, губительное дело».
И ещё пронзительное короленковское дополнение: разговор с Чернышевским, лично ему доселе незнакомым, «завязался… как-то сразу», как будто, пишет Короленко, «мы были с Н. Г. родные, свидевшиеся после долгой разлуки».
Прекрасно сказано! Подумалось сейчас: а ведь Чернышевский – это родной опальный дядька русской литературы, так и не вернувшийся к нам или вернувшийся лишь номинально из своих Иркутсков, Усольских солеварных заводов, Нерчинских каторг, Астраханских песков…Это в «Жизни Клима Самгина», горьковской повести, есть образ замечательный – ссыльный дядя Яков, вернувшийся под конец жизни из пустыни, где жил с дикарями и копал арыки. Теперь он седой, старый, брюзжащий, питающийся только чаем и рисом, и глохнущий от хины. Вернулся. Свалился на голову. А его «не ждали».Семья-то уже успела «поумнеть». «Одичали вы здесь, – качает головой дядя Яков. – А явочной квартиры, значит, нет. И кружков нет…» Емуотвечают: «Это теперь называется «поумнеть».
Не замечали? Чернышевский всегда где-то далеко. И роман его доставать с полки не с руки. И суждения его категоричны слишком. Ворчит себе там что-то, вечно недоволен, разочарован. Попробуй, заговори с ним – без вины виноватым станешь. Без вины ли?Да, жить рядом с ним – сложно. И мы просто, бывает, забываем или, скорее, делаем вид, что не помним родного нашегочужого дядьку. Николая Гавриловича – во все эпохи какого-то неуместного, неудобного, несвоевременного.
О несвоевременном и «непоумневшем» Чернышевском – несколько торопких карандашных набросков.
* * *
Говорят, у каждого писателя-поэта своя «Болдинская осень». У Чернышевского это время заключения в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, в одиночной камере № 11, оказавшейся вполне пригодной для двух положений тела в пространстве. «Я… бываю исключительно только в двух положениях: сижу и лежу», – с иронией, конечно, говорил Чернышевский, привыкший, как истинный учёный-энциклопедист, упорядочивать факты.Здесь написан самый, пожалуй, противоречивый в истории русской словесности роман, вызвавший к повестке дня принципиально неустаревающий и принципиально же безответный вопрос. Роман, воспевающий эстетику действия, дающий алгоритм поступка. Какого? Благородного. Быть человеком учит Чернышевский, беречь в себе человека, не позволять унижать человеческое достоинство. У Пришвина – «неоскорбляемая часть души». У Чернышевского – неоскорбляемая камера. Что-что, а уж это-то у нас – да только ли у нас? – никогдане прощалось. Достоинство и свобода духа. Ни к какому топору никогда и никого Чернышевский не призывал, разумеется – это было бы примитивно и нелепо для такой масштабной фигуры. А вот изменить себя Николай Гаврилович ещё как советовал. Настойчиво! И серый пакет на снегу – нашёл же чиновник пропажу Некрасова, подобрал же, принёс на Колокольную! – учит тому же.
Чернышевский на романе, впрочем, не остановился. Здесь, в камере, родилась «Автобиография». Хорошая, кстати, вещь, трогательная. «Окна дома, в котором жили мы, выходили на Волгу. Всё она и она перед глазами…» – писал Николай Гаврилович, видя перед собой унылые стены да краешек неба в зарешёченном тесном окошке.
«Всё она и она перед глазами…»
* * *
Товарищ детства и отрочества Александра II поэт Алексей Толстой, оказавшийся на царской охоте рядом с императором, отважился сказать ему: «Русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского…». Император оборвал поэта: «Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о Чернышевском!»
* * *
– Только послушайте, Иван Владимирович, нет, вы только послушайте: «Революционер-демократ прожил аж шестьдесят один год»… Посчитали и пожалели, зажился Чернышевский-то… И это в московской прессе такое насаждают. Люди прочтут и, пожалуй, согласятся – да, нормально, не тридцать же семь… А разве Чернышевский из шестидесяти одного чуть не тридцать на каторге не провёл?
Вижу: Адольф Андреевич Демченко, филолог от Бога, поднявший кропотливый неподъёмный труд – научную биографию Чернышевского, снимает очки и, качая головой, показывает на только что прочитанную газету. Он без галстука, в пиджаке, небрежно наброшенном на свитер. Адольф Андреевич возмущался подобными наветамичто ребёнок, мог часами говорить увлечённо, восстанавливая справедливость. И обязательно отзывался репликой, заметкой, статьёй в печати.Как-то Демченко разыскал в архивах записи Чернышевского, сделанные им в Петропавловской крепости. В этих записях, среди прочего, обнаружился список произведений, которые Чернышевский не рекомендовал читать гимназистам, считал, что их не следует «включать в программу», как бы мы теперь сказали. Потрясающе, но среди них, не рекомендуемых, оказалось гениальное лермонтовское «Бородино». Причём Чернышевский так и подчёркивал: гениальное стихотворение, но не для обучения. А расшифровок никаких не делал – не до того было перед гражданской-то казнью. И Адольф Андреевич предположил, что Чернышевский, возможно, имел в виду горестные для русских Платонов Каратаевых итоги войны – помните, конечно, печально знаменитый послевоенный манифест, где генералам и дворянам раздавались блага, а про крестьян замечалось вскользь, что они «да получат мзду от Бога». Печально, горько. И в шедевре Лермонтова эта горечь подсознательно заложена. Но понять это можно, лишь имея за плечами опыт, лишь с возрастом…
А вообще Чернышевский славным был наставником. Один из родоначальников учительской литературы, если вдуматься. Чернышевский и школа – тема ещё какая!Представьте только: весна 1851 года. Саратовская гимназия – как бы вы думали! – на Гимназической улице. Во втором кадетском корпусе появляется новый учитель русского языка и литературы, Николай Гаврилович. Он – действительно новый!Читает по памяти целые страницы из Жуковского, представляет в лицах героев Гоголя, говорит о вольной русской поэзии, упоминает Герцена. Его речь отличается плавностью и аристократической изысканностью построения фраз, вместе с тем – она проста и доступна. В каждом ученике видит он личность. Ветхий учебник отброшен в сторону, пожелтевшие его страницы заменены живым разбором литературных произведений, непосредственным общением. Новый учитель разрешает гимназистам разговаривать с собой наравне, он обсуждает вместе с ними животрепещущие проблемы современности. И вот уже любимого учителя словесности провожает домой чуть ли не весь класс… А заодно, как всегда это бывает, являются на уроки проверяющие. Да и как не заявиться? На уроках господина Чернышевского гимназисты не открывают учебников, всем классом обсуждают сочинения друг друга, спорят с учителем и, страшно подумать, высказывают своё мнение.
Вскоре выносится приговор сочинениям учеников Чернышевского. Хотя, конечно же – ему самому. Первый, наверно, в жизни, но далеко не последний.
«Представленные при донесении… сочинения учеников 6 класса вверенной Вам гимназии, были препровождены на рассмотрение к адъюнкту Казанского Университета Буличу, который ныне возвратил эти сочинения с следующим мнением, первое, Василия Михальского разбор повестей «Белкина (Пушкина)». Сочинитель кажется не имеет никакого понятия о том роде критики, которая называется историческою критикою, а потому его суждения совершенно произвольны, пусты и ни на чём не основаны, кроме его личных убеждений. Подобные же убеждения – плохой авторитет. Кроме того, резкость тона, необдуманность выражений, часто неуместные и натянутые остроты доказывают малую степень уважения со стороны критика к разбираемому им славному писателю. Молодой человек не так поступать должен. Суждения его должны быть девственно-чисты, а не щеголять претензиями на насмешливость и оригинальность».
* * *
А вот ещё два приговора. Скажем так – фрагменты приговоров разных эпох.
Первый – из царского времени.
«Обращаясь затем к определению степени предлежащего Чернышевскому наказания, сенат находит, что Чернышевский, будучи литератором и одним из главных сотрудников журнала «Современник», своею литературною деятельностью имел большое влияние на молодых людей, в коих, со всею злою волею, посредством сочинений своих развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи, которыми проникнуты сочинения его, и, указывая в ниспровержении законного правительства и существующего порядка средства к осуществлению вышеупомянутых идей, был особенно вредным агитатором, а посему сенат признаёт справедливым подвергнуть его строжайшему из наказаний, в 284 ст. поименованных, т. е. по 3-ей степени в мере близкой к высшей по упорному его запирательству, несмотря на несомненность доказательств, против него в деле имеющихся».
Второй – из советской поры, когда Чернышевский до слащавости превозносился.
«Сегодня советский народ, всё прогрессивное человечество отмечают 125-летие со дня рождения гениального русского учёного, философа-материалиста, писателя-публициста, великого революционного демократа <...>. С глубочайшей признательностью народы Советского Союза чтут память Чернышевского. В страшную эпоху царского самодержавия он смело поднял…»
Живые буквы Чернышевского и мёртвые знаки одинаково равнодушных приговоров – хулительного и комплиментарного. И не знаешь ещё, какой хуже…
* * *
После Саратовской гимназии был Петербург. Самозабвенная работа в журналах. Жар полемик. Запах свежей типографской краски. Белинский и Добролюбов. К слову, раз уж пришлось, хорошо сказал о Добролюбове Чернышевский несколькими годами позже в трагическую минуту: «…умер оттого, что был слишком честен». Это зимой он сказал, в распахнутой шубе, со слезами на глазах. И кто-то в толпе прошептал испуганно: «…достанется же ему». Достанется…
Но это всё потом. А пока, в Петербурге, на набережной реки Ждановки, 7, или, скажем, в Поварском переулке счастливые молодожёны Чернышевские устраивают по субботам приёмы. С угощениями, конечно, шумными танцами, музыкой. Ольга Сократовна ведь пела прекрасно и вообще была музыкальной натурой. Как-то заглянул к Чернышевским Иван Забелин – Илья Муромец русской истории. Потом пишет: «… жена его милая особа, вроде цыганки, недурна собою, и супруги, кажется, до сих пор по уши влюблены друг в друга. После обеда она поила его кофе, перемешанным частыми поцелуями, села к нему на колени, обняла голову, давала по глотку кофе и по поцелую».
Правда, Николай Гаврилович посидит-посидит с гостями, возьмёт «скучный» стакан чаю да и пойдёт в свой кабинет, извинительно улыбаясь: «Нужно заметку для журнала дописать, завтра в редакцию…» Так, между прочим, рождались шедевры критической мысли – «Очерки гоголевского периода русской литературы» для «Современника» или «Русский человек на rendez-vous» для «Атенея».
Кстати, о rendez-vous. С некоторых пор чуть ли не в тон вошло упрекать жену Чернышевского: мол, не была так верна, как следовало бы, и всё прочее. Скажу так: не нам с вами быть моралитэ. ОльгеСократовне поклон нижайший только за то, что всегда повторяла детям – Александру и Михаилу: «Главное – помнить, что вы сыновья самого честного из честнейших людей».
* * *
Гаврила Иванович, отец Чернышевского, прохаживается по небольшой комнате, из окон которой видна Волга, и диктует: «Желай всегда доброго; истины всегда держись; лжи и обмана избегай; учение полезно: учись, не ленись; счастье непостоянно; ешь и спи умеренно; юным прилична скромность». А ещё это: «Честный человек всеми любим». И перо восьмилетнего Николеньки со старанием выводит аккуратные буквы. Вот и сошлись они в трагической фигуре Чернышевского, максимы-парадоксы нашей гуманитарной культуры и вообще нашей истории – «…умер оттого, что был слишком честен» и «Честный человек всеми любим».
* * *
Находиться рядом с Чернышевским – ну то есть апеллируя к его системе ценностей, памятуя о его нравственной стойкости, о его неизменном гуманизме – действительно трудно. Но ведь это писатель, без которого (вне которого, забыв которого) жить как-то стыдно. И бедно. Нет, не обойтись без Чернышевского, не существует без него истории русской литературы. Где-то в ссылке, в редчайший – чуть ли не единственный – за многие годы день свидания с семьёй Николай Гаврилович подарил сыну Михаилу коробочку с изображением диковинного павлина на крышке. В ней Михаил хранил потом письма отца. Так вот, Чернышевский – не обыденный, не скучный.Он требует ответных усилий читателя. Это да. Но свет его ярок.
Зайдёшь в гостеприимную Музей-усадьбу Чернышевского, осмотришься в уютном дворике, тронешь рукой мудрую древесную кору, перебросишься парой фраз с Галиной Платоновной Мурениной, подвижницей музейного дела, ведшей музей почти 45 лет, пройдёшься по комнатам, где раздавался когда-то детский смех, поднимешься во флигель, откуда видать Волгу. Другую. Но и ту же, конечно…
А у памятника живые цветы – красные розы. (Уж не те ли, что бросила в час гражданской казни к ногам «государственного преступника» отчаянная Мария Михаэлис?) И что-то вроде как в тебе отзывается. И хоть как-нибудь, хоть на ходу, хоть на переменке между унылыми экзерсисами, что нахально прут изо всех щелей, учишь уроки Чернышевского. Всё равно учишь. Точно школьник-гимназист. Не соглашаешься с учителем запальчиво, в спор бросаешься, протестуешь, говоришь своё, своё поминаешь.
Я вот вспоминаю Демченко. Адольф Андреевич трагически погиб несколько зим назад в пожаре. Он мог бы спастись. Он же книги начал спасать – бросать их в снег из окна. Книги – они для учёного, для мыслителя – драгоценные. Не безличные, а раритетные – с карандашными пометками великих филологов Покусаева и Скафтымова… Ну, стало быть, спасал. А сам задохнулся в дыму. «Это не смерть профессора Демченко, – говорили тогда. – Такого не должно было случиться…» Я и сам говорил. Теперь же думаю – могло ли быть иначе? Пропись Чернышевского детскую мне Демченко показывал. Если уж выводить буквы, если служить слову, – то, значит, до самого последнего вздоха.
И так отляжет вдруг от сердца, так хорошо, вольно сделается на душе…
…А зимой, знаете, самой зимой,в саратовские сухие морозы, у памятника, всё к солнышку смотрящего,снег оттаивает. И на отталочке, на пригреве,жмутся друг к дружке собаки. Они-то, бездомные-бесхлебные, точно знают, кто их заступник.
Иван Васильцов
член Союза писателей России,
доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка и культуры речи
Саратовской государственной юридической академии,
лауреат Международной литературной премии им. И. А. Гончарова, всероссийской премии им. М. Н. Алексеева,
лауреат премии Всероссийского общества «Знание» «Просветитель года» (2021 год)