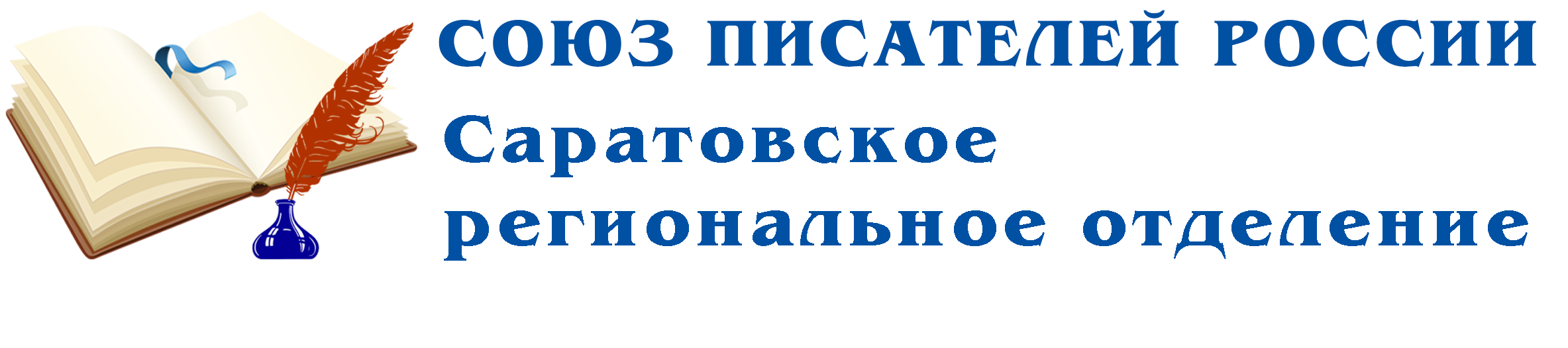Наталия Тяпугина
Несвоевременные мысли. Как всегда…
Сверхзадача исследователя литературы, как известно, заключается в умении перевести художественную логику в логику научную, и желательно с наименьшими потерями. Понятно, что искусство не может быть исчерпано в научных категориях, иначе оно просто не было бы нужно. Но также ясно, что и только образные формы для постижения мира недостаточны, о чём свидетельствует многовековой факт существования самой литературной науки. Круг замкнулся. Вопрос остался: так для чего же они нужны, эти литературоведы?
Наверное, многим из нас хоть однажды приходила в голову мысль, в которой незадолго до смерти признался гениальный Ньютон: “Я не знаю, что будут думать обо мне грядущие поколения; но я сам представляюсь себе ребёнком, который на берегу океана нашёл несколько выброшенных на сушу раковин, тогда как сам океан во всей своей неизмеримости и неисследимости по-прежнему стоит перед его взором, как великая неразгаданная тайна”1).
Подлинное произведение словесного искусства – по сути тот же неисследимый океан живых смыслов, ассоциаций и эмоций, над которыми из века в век, как заговорённые, бьются со своим несовершенным инструментарием литературоведы.
Дело в том, что Слово в пределах художественного произведения живёт по своим законам: оно цель и средство, деталь и несущая конструкция, закрытая система и открытая для понимания сущность. Вот почему труд у литературоведа нелёгкий, можно сказать, не без мистики. Художественное произведение гениального автора остаётся одной из величайших тайн, сколько бы времени ни прошло. И подводных камней здесь много. Начнём с очевидного.
Итак, мы открываем книгу и постепенно погружаемся в неё, интуитивно осторожно пестуя в себе зарождающееся наслаждение от живого взаимодействия, которое, собственно, и запускает в читающей личности все последующие процессы.
Хрупкие поначалу душевно-духовные импульсы, идущие от авторского слова, постепенно прорастают и крепнут в хорошем читателе, не оставляя его, а, напротив, оживляя весь имеющийся в его распоряжении культурный базис, аналитический аппарат, природные способности – короче говоря, всё, чем эта читающая личность располагает. Но прежде читатель должен всласть напереживаться, насладиться языком, стилем, сердцем прилепиться к автору и его героям. Без этого – никак. Без этого аналитика ничего не будет стоить. Слово надо любить.
До сих пор верны советы В.Г. Белинского, воплотить которые, увы, далеко не всегда и всем удаётся: “Пережить творения поэта – значит переносить, перечувствовать в душе своей всё богатство, всю глубину их содержания, переболеть их болезнями, перестрадать их скорбями, переблаженствовать их радостью, их торжеством, их надеждами. Нельзя понять поэта, не будучи некоторое время под его исключительным влиянием, не полюбив смотреть его глазами, слышать его слухом, говорить его языком”2).
Да, связь со СВОИМ читателем у писателя – из разряда уникальных. Можно ли художнику не дорожить ею?
Вот и Ф.М. Достоевский всегда стремился к предельно тесному общению со своим читателем. Всегда хотел «написать так оригинально и призывно», чтобы книгу не хотелось выпускать из рук. Да, собственно, всё им написанное и обладает такой исключительно заразительной силой. Многие, вслед за Н.А. Бердяевым, могли бы назвать писателя влекущей к себе духовной родиной. Через Достоевского приходили к философии и психологии, к России и Богу. Уже при жизни многие видели в нём Пророка, Учителя, Человека, знающего ответы на самые сложные вопросы. Связь Достоевского со своим читателем – прошлым ли, настоящим или будущим – из разряда исключительных психологических явлений.
В каком же случае возможна такая важная встреча? – Только в одном: когда в произведениях писателя его читателями угадывается подлинная ценность, необходимая правда, когда слово художника воспринимается глубочайшим центром читающей личности. Ничего не стоят стилистические изыски, бытовые подробности или натуралистическая конкретика, если писатель не может провидеть и раскрыть своему читателю «суть вещей невидимых», если сторонится серьёзного разговора о жизни, если трусит и осторожничает с выводами.
Далее. При интерпретации художественного произведения литературовед решает задачу колоссальной сложности: у него, как и у писателя, предмет и средство познания совпадают: это слово. И надо их совместить таким образом, чтобы слово писателя и слово исследователя не диссонировали, а вступая во взаимодействие, способствовали бы более полному постижению художественного текста и, одновременно, отражали бы личность не только писателя, но и самого литературоведа, уровень мышления и самосознания обоих.
Это непросто. К.Г. Юнгу принадлежит одно оригинальное сравнение. Он уподобил художественное произведение растению, которое, хоть и произрастает из почвы и, безусловно, зависит от неё, но являет собой самостоятельную сущность, которая сама по себе имеет лишь опосредованное отношение к составу породившей её почвы. Судите сами. Цветущий луг: репейник, одуванчик и прочие лютики-цветочки, – что между ними общего? А между ними и землей, давшей им жизнь? То-то и оно. Они связаны этой почвой, но все они РАЗНЫЕ!
Я веду к тому, что при анализе художественного произведения следует не упускать из виду:“продукт” творчества есть реализация всех исходных условий, но смысл художественного произведения, его специфическая природа покоятся только в нём самом.
Более того, именно творчество на своё усмотрение «употребляет» творящего человека и все его личные обстоятельства в качестве питательной среды, распоряжается его силами и возможностями в согласии с собственными требованиями и в итоге делает себя тем, чем само хочет стать.
В этом признаются и сами художники. Вспомним А.С. Пушкина, сего:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружён;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орел...
А у Ф.М. Достоевского в “Дневнике писателя” за 1876 год (в главе “Нечто об адвокатах вообще. Мои наивные и необразованные предположения. Нечто о талантах вообще и в особенности”) вопрос вообще поставлен ребром: “... талант ли обладает человеком или человек своим талантом?” – И делается категоричный вывод: “Мне кажется, сколько я ни следил и ни наблюдал за талантами, живыми и мёртвыми, чрезвычайно редко человек способен совладать с своим дарованием, и что, напротив, почти всегда талант порабощает себе своего обладателя, так сказать, как бы схватывая его за шиворот (да, именно в таком унизительном нередко виде) и унося его весьма на далёкие расстояния от настоящей дороги”3).
А вот и совсем свеженькое – признание современного поэта:
Пегас – чудовище моё!
Как много всякой пищи,
А ты, забыв про это всё,
Живое сердце ищешь.
Возьми пшеничный каравай,
Овса хоть два овина.
Так нет же! Сердце подавай!
На, жри его, скотина! (Н. Беседин)
Что же касается мировоззренческих установок, замыслов и прочих благих намерений художника – это имеет значение лишь постольку и в той мере, поскольку и в какой мере позволяет постичь созданное. И вообще, по большому счёту, важен лишь результат. В конце концов, “розу назови хоть розой, хоть не розой...” Не в бирюльки играем. Тут «дышит почва и судьба»…
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
Зато если сдюжил, не смельчил, воплотил-таки хоть в малой мере Божью волю о себе – и награда королевская. Чего уж там?! Все мы знаем, чего стоим. Самый честный, как всегда, Пушкин, со своим «Памятником» (смысла нет цитировать, помним наизусть).
Примеры можно множить. Как о реальной силе, как о загадочной энергии в художественном творении говорят не только сами творцы, но и исследователи их творчества. Причём, самые чуткие из них обращают внимание на то, что энергия эта рождается не только из текста, из конкретных слов, но и из связи между ними. Из контекста, то есть.
П.А. Флоренский назвал эту связь “органичной и существенной”. Он ощущал эти связи, полу-найденные, полу-искомые, “не стальными стержнями и балками отвлечённых строений, а пучками бесчисленных волокон, бесчисленными волосками и паутинками, идущими от мысли не к ближайшим только, а ко многим, к большинству, ко всем прочим”4).
Вот почему исследователю литературы надо помнить, что все нормы истолкования заключены в составе самого произведения и нельзя в угоду теории допускать внешних по отношению к смыслу комбинаций. Какую-нибудь остроумную и даже полезную вещь такая операция, может быть, и произведёт, но жизнь, которую вдохнул в неё Создатель, из такой работы, точно, уйдёт.
Между тем литературная наука – это именно наука, которая постигает предмет в присущих ей формах мысли: она должна перевести язык искусства на язык логических понятий. Как это сделать, не нарушая живого образного единства и не сводя художественный образ только к формальной логике, – вопрос вопросов. И это не столько теоретическая, сколько реально-практическая антиномия, стоящая перед интерпретатором художественного произведения.
Так и пробирается литературовед между Сциллой живого искусства и Харибдой научной целесообразности. И риск велик. О нём, по сути, в одном из своих писем иронизировал В.С. Соловьёв: “Главное дело в том, что эта “наука” не может достигнуть своей цели. Люди смотрят в микроскопы, режут несчастных животных, кипятят какую-нибудь дрянь в химических ретортах и воображают, что они изучают природу!.. Вместо живой природы они целуются с её мёртвыми скелетами”.
Обычное дело, к сожалению. Чаще всего с «мёртвыми литературными скелетами» мы и целуемся!
Между тем дух способен угадать многое, потому что именно к нему и апеллирует художник. Вяч. Иванов так описал природу воздействия на душу подлинного искусства: “Потрясённая душа не только воспринимает, не вторит только вещему слову: она обретает в себе и из тайных глубин болезненного рождает своё восполнительное внутреннее слово. Могучий магнит её намагничивает: магнитом становится она сама. В ней открывается Вселенная”5).
Как видим, речь идёт об особой энергии слова, что, проникая в душу читающего, вызывает могучий ответ в виде зарождения мощного внутреннего импульса. Это можно назвать настоящим чудом искусства и этим ограничиться. А можно попытаться понять природу этого чуда. Ведь, по сути, происходит второе (или – очередное) воплощение идеи, которая изначально уже присутствовала в парадигме читающей личности, и с помощью искусства была лишь актуализирована. Произошла модификация смысла, оживление ассоциаций, которые изначально уже существовали в глубине воспринимающей личности, и с помощью живого авторского слова были лишь разбужены, активизированы, приведены в состояние плодотворного взаимодействия. Произошло взаимное оживление давно (или недавно) написанного слова и воспринимающей души, которая, пройдя через эстетическое потрясение, обрела какое-то новое качество.
Такова сила художественного образа, который, кроме всего прочего, несёт в себе «переживания забытого и утерянного достояния народной души» (Вяч. Иванов). И это так важно для нас, что мы почти невольно откликаемся на фантазию художника, ибо слышим в ней голос человеческого рода. Об этом же свидетельствуют многочисленные высказывания людей творящих и рефлексирующих о творчестве: «Познание есть воспоминание» (Платон); «Быть поэтом – значит позволить, чтобы за словами прозвучало Пра-слово» (Г. Гауптман) и мн. др.
Это происходит потому, что в недрах каждой личности заложены многочисленные напластования всех слоев прошедшей жизни, причём, жизни вообще, а не личной только. Эмоционально-подсознательная память удерживает в нас многое, но с разной степенью отчётливости. Наша память способна извлекать эту информацию из разного рода мифов, символов, своеобразных праобразов. Но для этого требуется эмоциональный толчок. Такого рода толчок и способен произвести писатель. Правда, не всякий, а только такой, который, несомненно, родствен своему народу, то есть имеет ту же систему ценностей, что и его соплеменники. Конечно, он, как художник, должен обладать особым даром к пробуждению тех абсолютных ценностей, тех коренных, хотя, может быть, на данный момент и забытых норм, что составляют саму национальную природу человека. Речь, понятно, о больших художниках.
Но ведь именно в творчестве, в этом свободном парении духа, легче всего вообще преодолеть всякие границы, тем более такие хрупкие и во многом условные, как границы художественных творений. Ведь и сами их авторы как будто признают объективную множественность изменяющихся смыслов. Анатоль Франс вообще довел эту мысль до парадокса: “Жить – значит меняться, и посмертная жизнь наших мыслей, запечатлённых пером, подчиняется тому же закону: они продолжают своё существование, лишь непрерывно меняясь и становясь всё более и более непохожими на то, какими были они, когда появились на свет, зародившись у нас в душе. То, чем будут восхищаться в нас грядущие поколения, нам совершенно чуждо”6).
Так имеет ли чёткие границы литературоведение, если сама литература безмерна и безгранична? И, может быть, прав О. Уайльд и не стоит себя мучить подобными проблемами, а раз и навсегда согласиться с тем, что “единственная характерная особенность прекрасной формы заключается в том, что всякий может вложить в неё, что ему вздумается и видеть в ней, что он пожелает”?7)
Между тем при всей заманчивости такой интерпретаторской вседозволенности, дистанция между автором и исследователем, несомненно, существует, и при общности объекта задачи у них всё-таки разные. Труд литературоведа по своей природе вторичен и напрямую связан с результатами труда писателя. И главным критерием усилий литературоведа остаётся точность, понимание своего места и границ возможностей. А точность исследования, говоря словами М.М. Бахтина, это “совпадение вещи с самой собой”. Здесь важнее всего глубина, необходимость добраться до творческого ядра личности, потому что именно в этом самом творческом ядре пишущая личность продолжает жить, то есть бессмертна.
Конечно, есть и объективные трудности, препятствующие точности и глубине проникновения в текст. Речь идёт о том, что С.Л. Франк назвал принципиально непостижимым: “Всякая вещь и всякое существо в мире есть нечто большее и иное, чем всё, что мы о нём знаем и за что его принимаем, – более того, есть нечто большее и иное, чем всё, что мы когда-либо сможем о нём узнать...”8)
И это даже при несомненном наличии у исследователя обширных и разносторонних знаний. Именно этот “неразложимый остаток” и не позволяет превратить анализ художественного произведения в механическую операцию, в набор модулей, пригодных для универсального использования. Здесь мы подходим к проблеме сделанного и рождённого. По сути, мы приближаемся к тайне творчества, которую разные мыслители трактуют в соответствии со своими представлениями о мире. То, что психологи-аналитики именуют “бессознательным”, материалистически мыслящие философы – “иррациональным”, а христианские философы называют божественным началом, теургией.
Мне близка мысль о теургическом принципе, главенствующем в художественном творчестве, ведь до уровня гениальности автор поднимается только тогда, когда “божественный глагол до слуха чуткого коснётся...”
Понятно, что при таком взгляде на природу творчества, его значимость многократно возрастает, ведь в этом случае очевидно: совершенное искусство содержит в себе воплощённый идеал, который существует не только в представлении человека и воображении художника, но и фактически явлен большому художнику в претворённом виде. Получается, что, действительно, человек творящий многое может, ибо соединяет в своём творчестве подвиг Пигмалиона, внося в косную материю жизни идеальное начало; подвиг Персея, облагораживая нравственную и социальную жизнь человечества, весьма далёкую от идеала; и подвиг Орфея, – увековечивая в искусстве индивидуальные явления быстротекущей жизни.
И всё это настоящий художник не то чтобы должен, а просто не может не делать. Это априори ему задано и дано, ибо через него Бог выражает свой замысел о человеке.
Вот почему уже на стадии замысла художник испытывает на себе какую-то мощную силу, побуждающую его к поиску той единственной дороги, по которой он почему-то непременно должен пройти. Конечно, писатель активно ищет, думает, сравнивает, однако подчас и сам не может внятно объяснить, почему отказался от одних замыслов и остановился именно на этом, единственном.
К примеру, до нас дошло несколько вариантов авторских замыслов романа “Идиот”, где Мышкин предстаёт то гордецом (“Последняя степень проявления гордости и эгоизма”); то скупым рыцарем; то забитым человеком, который, тем не менее, “кончает божественным поступком”; то героя отличает особенная жизненная сила, проявляющаяся в жажде наслаждения; то “при характере идиота – Яго”, необыкновенный, скрытный, холодный, завистливый; и, наконец, “он – юродивый!”, хотя свойственна ему “страсть безумная из безумных”. Ещё в конце октября 1867 года Мышкин видится Достоевскому демонической личностью, наподобие Ставрогина. В тетради № 11 есть важная заметка: “Он – князь. Идиот. Всё на мщении. Униженное существо. Князь – юродивый (он с детьми)”. И только в декабре 1867 года Достоевский окончательно понял, что должен “изобразить вполне прекрасного человека”, что “князь – невинен!”9)
Примечательный комментарий к этому ходу авторской мысли принадлежит чуткому К.В. Мочульскому: “Отвергнутые варианты представляются нам теперь менее художественными, чем окончательная редакция. Мы загипнотизированы реальностью воплощения, но перед взором творца теснились бесчисленные возможности судьбы героев, требуя воплощения и отстаивая своё право на жизнь. Он вовсе не выбирал ту из них, которая была художественнее, но она становилась художественной потому, что он её выбирал. В этой свободе выбора тайна искусства” (Курсив мой – Н.Т.).
У психологов своя разгадка этого феномена. Они считают, что внутренние мотивы творчества возникают из такого глубокого источника, что не охватываются только сознанием, а потому и не находятся полностью под его контролем. Эти “силы” в научной литературе называют по-разному: манами, духами, демонами или богами. И вот эти самые маны не только входят в плоть произведения, но и составляют в нём то самое специфическое качество, которое затруднительнее всего выразить в конкретных терминах и которое, тем не менее, являет собой то единственное и неповторимое, что делает произведение именно уникальным явлением искусства.
Велика роль настоящих писателей в России, особенно во времена войны и смуты. От них всегда ждали моральной поддержки, на их позицию ориентировались. Исключительно важна и роль читающей личности (уходящая натура!), ведь именно в недрах её души и рождается тот отклик, который роднит и объединяет людей, наполняет их душу важными смыслами, помогает осознать себя единым народом и выстоять в лихую годину. Смартфон тут бессилен.
В наше время, отягощённое ко всему прочему затянувшейся невнятностью образования, невероятно важная миссия выпадает на долю «полевых» литературоведов, тех, кто выступает посредником между литературой, писателями и теми, кто получает и даёт гуманитарное образование: преподавателями, учителями, учениками, студентами. Ведь именно литературоведы пишут учебники, статьи и методички по литературе, в которых истолковывают, разъясняют, заинтересовывают и побуждают. Просвещают, одним словом. Не всегда это получается, но по факту именно скромный литературовед оказывается важнейшим звеном между словесной культурой и мало читающим и не всё понимающим народом. Опираясь на писательское Слово, литературовед и его собрат литературный критик отважно вступают в диалог с людьми о вещах важнейших, иногда просто – сакральных: о Родине и предательстве, о душе и грехе, о подвигах и славе, о жизни и смерти. Согласитесь, это непросто. А при этом ещё в жарких идеологических битвах постоянно маячит риск угробить сам объект обсуждения – хрупкую и прекрасную литературу. Как обычно: не до красот, знаете ли!
Наша литературная наука стала искать выход давно, ещё в 20-е годы прошлого века (тоже не самое спокойное время выбрали!) И знаете, нашли. И советы не устарели. И модели – работающие.
Итак, речь о методологии литературоведения, которую ведут настоящие корифеи литературной науки. В дискуссии приняли участие виднейшие наши учёные В.В. Виноградов, В.М. Жирмунский, Н.К. Пиксанов, А.Н. Веселовский, А.М. Евлахов и другие.
Свою точку зрения на становление литературоведческой методологии высказали в этой полемике М.М. Бахтин и А.П. Скафтымов, совпав в главном: признавая роль "теоретического" подхода (Скафтымов), отводя определённые права "материальной поэтике" (Бахтин), оба учёных акцентировали внимание на едином требовании: прежде всего надо постигать эстетическую целостность самого художественного творения: "Эстетический анализ должен прежде всего вскрыть имманентный эстетическому объекту состав содержания, ни в чём не выходя за пределы этого объекта, – как он осуществляется творчеством и содержанием"10).
Позднее эти идеи аргументированно развил С.С. Аверинцев. Определяя характер содержательной образности литературы, в своих статьях о мифе и символе в Краткой литературной энциклопедии (т.4 и т.6), как бы отходя от темы и даже жанра энциклопедической статьи, высказал он мысль о существовании двух уровней литературоведческого анализа.
Характеризуя символ как "знак, наделённый всей органичностью мифа и неисчерпаемой множественностью образа", С.С. Аверинцев пишет о той разновидности литературоведения, которая устремляется на обнаружение в символе "образа мира, в слове явленного". Её он называет истолкованием, символологией, в отличие от описания текста, которое в полном соответствии со своими задачами стремится к последовательной формализации по образу точных наук. В то время как "истолкование, или символология, как раз и составляет внутри гуманитарных наук элемент гуманитарного в собственном смысле слова, т.е. вопрошающего о humanum, о человеческой сущности, не овеществляемой, но символически реализуемой в вещном" (выделено мною – Н.Т.). Отличие символологии от точных наук, в том числе и от описательного литературоведения, носит принципиальный и содержательный характер – "ей не просто недостаёт "точности", но она ставит себе иные задачи"11). Речь, понятно, идёт о точности иного порядка и уровня.
При агрессивной формализации современных литературоведческих штудий и падения общего уровня филологической культуры в течение последних десятилетий подумать есть над чем. Ведь прав был ироничный П.В. Палиевский: “Искусство не строится на теориях и даже не строится вообще – оно вырастает индивидуальным способом”. Вот почему и открывается оно только ключом, подобранным тем же самым – индивидуальным способом. И никак иначе. Получается, штучная работа. Уникальная. И при этом государственной важности. Уверяю вас: литературоведы и об этом ведают!
Примечания
1. Цит. по кн.: Франк С.Л. Непостижимое // Франк С.Л. Соч. М. - 1990. - С.213.
2. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М. - 1955. - Т.7.- С. 310.
3.Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л. - 1981. - Т.XXII. - С. 54.
4. Флоренский П.А. Пути и средоточия // Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М. – 1990. - Т. 2. - С. 27.
5. Иванов Вяч. И. Мысли о символизме // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М. - 1994.- С. 193.
6. Франс А. Собрание соч.: В 8 т. М.- 1958. - Т. 2. - С. 527.
7. Уайльд О. Полн. собр. соч. М. - 1909. - Т. 5.- С. 209.
8. Франк С.Л. Непостижимое // Франк С.Л. Соч. М. - 1990. - С. 220.
9. См. примечания к роману «Идиот»: Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. - Л., 1989. -Т. 6. - С. 619-634.
10. Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М. - 1975. - С. 38. Ср.: Скафтымов А.П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы // Русская литературная критика: Саратов. - 1994. - С.134-152.
11. Аверинцев С.С. Символ // КЛЭ. - 1971. - Т.6. - Ст. 828.