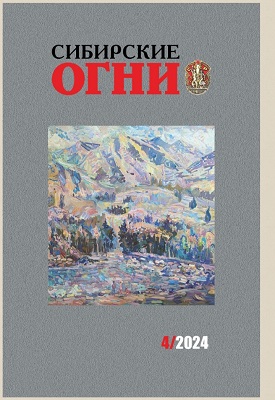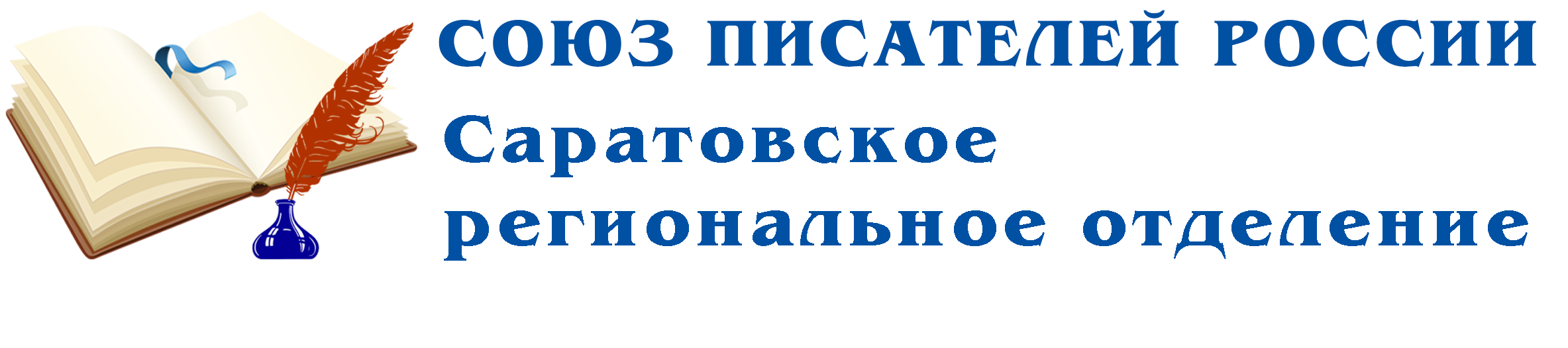Рецензия Алексея БУССА на повесть Ивана ПЫРКОВА «БЕКЛЕМИШЕВСКИЙ ОСТРОВ», опубликованную в литературном журнале «Сибирские огни» № 4 апрель 2024 г.
https://www.sibogni.ru/content/beklemishevskiy-ostrov
ВОЛГА – ЖЕНСКОГО РОДА
Природа, она, брат, тоже женского рода…
В. Астафьев «Царь-рыба»
Примечательная особенность саратовского писательского сообщества – большой процент рыбаков среди пишущей братии. Оно и не удивительно – старинный город у главной русской реки с естественными рыболовными традициями не может не отложить отпечатка на творческую душу. А если учесть ещё и не менее естественную тягу к созерцательности, свойственную большинству литераторов, то… В общем, сочетание писатель+удочка (спиннинг, лодка, наживка и т.д., и т.п.) кажется если не обязательным, то весьма закономерным.
Однако одно дело – быть рыбаком-любителем или даже рыболовом-спортсменом и с традиционным в таком случае краснобайством повествовать о колоссальных (никак не меньше!) своих успехах на этом поприще коллегам в местном отделении СП России, а другое – претворить удовольствие от рыбалки в творческое вдохновение! То есть создать достойное литературное воплощение своих рыбацких впечатлений, воспоминаний, побед, разочарований, а то и – фантазий, чем чёрт не шутит?
Многие пытались. И большие писатели, и любители, и совсем уж графоманы. Перед рыбалкой ведь все равны – и седовласый мэтр, и юный поэт из безвестного лито. Получалось по-разному, но, на мой взгляд саратовская «Царь-рыба» ещё не написана. Однако ближе и талантливей всех к воплощению на бумаге отношений Волги и саратовцев подошёл Иван Пырков – потомственный и литератор, и рыбак.
Повесть «Беклемишевский остров», опубликованная в четвёртом номере журнала «Сибирские огни» за текущий год – плод коренной переработки одноимённого очерка, вышедшего десять лет назад в саратовском альманахе «Впечатления». Редактор этого издания, к сожалению, прекратившегося на третьем номере, писатель Виктор Бирюлин однажды рассказал мне, что концепцией альманаха, придуманной им совместно с прозаиком Иваном Шульпиным, была попытка выбора для публикации исключительно лучших образцов местной литературы – то есть создание своего рода эталонного образа современного локального литпроцесса. И действительно: уже в варианте очерка ностальгический текст Ивана Пыркова обладал впечатляющим духовным зарядом.
А теперь – повесть. В самом начале статьи я уже два раза использовал слово «естественно», применю его и сейчас. Естественно, закономерно, ожидаемо – в самом хорошем смысле – повесть написана в жанре лирического монолога. Да, да, того самого, бунинского, прославленного в хрестоматийных «Антоновских яблоках», а кроме того исподволь пробиравшегося тургеневскими и пришвинскими тропками где-то по окоёму великих сюжетов русской литературы чтобы однажды самому стать сюжетом, точнее – вытеснить уже сюжет из текста вовсе, снять с повествования путы фабулы, освободить слово от кульминаций и развязок…
«Во сне, наяву, по волне моей памяти я поплыву…» – пелось в одной старой популярной песне на стихи Николаса Гильена. Пожалуй, эта строчка могла бы быть эпиграфом в «Беклемишевскому острову», поскольку в повести всего вдоволь: и яви – иногда смешной, иногда грустной, иногда почти эпической. И снов – сотканных из таких давних и таких нереальных уже воспоминаний, что они кажутся чем-то призрачным, эфемерным. И волн, конечно. И даже песни будут. По крайней мере, одна:
Настанет день красы моей,
Увижу белый свет.
Кругом вода и небеса...
Иван Пырков называет её старинной и странной песней рыбаков, и, мне кажется, символизм её появления в повести, написанной видным литературоведом, учёным-филологом и большим современным русским поэтом просто зашкаливает! Ведь эта старинная русская «народная» песня, известная также и в казачьем варианте, написана… Джорджем Гордоном Байроном, а перевод её уходит корнями в тот самый русский девятнадцатый век, с его романтизмом и критическим реализмом, в котором, как и некогда на Беклемишевском острове, чувствует себя как дома Иван Владимирович. В 1825 году перевёл этот текст Байрона поэт Иван Козлов, и с тех пор песня бытует в народе – в разных вариантах, вот и рыбаки свою версию имеют… Слияние литературы, фольклора, преображение романтического английского сплина в вековечную русскую тоску – это ли не чудо? Впрочем, в совершенно реалистической повести так много сказочного, совсем уж былинного сейчас, что такие чудесные превращения закономерны.
Былинные, то есть с одной стороны – человеческие, а с другой – наделённые некими необычными, нетипичными способностями в «Беклемишевском острове»-повести и на этом острове как таковом – прежде всего образы. И нет, не с людей начнём.
А вот хоть с дебаркадера, вот что пишет Иван Пырков относительно «домика на воде, с дымком из трубы», у которого «узоры на занавесочках — два окошка в любую погоду смотрели на воду, будто бы ожидая гостей»:
«Но вернемся на дебаркадер. Чего только тут не было! Две-три вязанки дров, рукомойник, обрывки сетей и, собственно, специальные крючки, чтобы сети эти вязать да ладить, верши, лодочные стлани, вялящаяся сорога — настоящая провесная рыба, сквозь которую лучится доброе осеннее солнышко, весла, якоря разной тяжести и формы, багры, несколько трапов; конечно, спасательные круги, шесты для промера глубин... Даже будка с собакой. Собаку звали почему-то Титан».
Это – описание интерьера? Нет, это портрет! Портрет живой, антропоморфный, человеческий. Ведь окошки-глаза смотрят на воду, ожидая гостей, а сети, багры, трапы, сорога и даже рукомойник – это не случайные предметы, а часть быта островного, читай – часть жизни, которую живёт, мерно покачиваясь на волнах, дебаркадер, как некое земноводное существо. И даже имя у него есть: «Еще он звонил в маленький медный колокол, который речники называют гремком. Ну гремок, гремочек. Не слышали разве? Такой имелся на каждом дебаркадере, перекочевывал туда с палуб больших пароходов. На гремке зеленоостровского дебаркадера отчетливо виднелись большие буквы: СПАРТАК». И пусть имя перешло дебаркадеру по наследству от старого парохода вместе с колоколом, всё же оно есть! Мало того, и сам колокол, название его, имеет оттенок независимости от более известной морской терминологии. Это у моряков – судовой колокол называется сурово и по-военному: «рында». А у речников – уютно и по-домашнему – «гремочек». Почему-то представляется, что и звенит он негромко и ненавязчиво. Не надо шуметь, рыбу распугаете…
Вообще такое слово, словечко, словцо Иван Владимирович тоже сделал одним из образов текста. Недаром, в конце повести вы найдёте колоритный, смачный, будто пахнущий воблой и мокрой снастью глоссарий: «стлань, омик, бырь, мотузка, вентерь…». А чего стоят термины «отудобеть», «тельняшится», «замгнувший»! Впрочем, для его персонажей важна не только лексика, но и интонация – несмотря на драматичность некоторых ситуаций у читателя всё время будет приятно на душе от того, что и речь автора, и диалоги произносятся будто бы с мягкой улыбкой…
Образами, практически равными персонажам, в повести стали многие неодушевлённые (так ли?) предметы – лодки, снасти, даже какой-то смешной колышек – подставка для удочки («дрын», «дрюк»). У него, оказывается, есть собственный характер и суперспособность находить рыбные места…
Одни из центральных образов – это сам остров и Волга. Они не фон повествования, они – его полноправные участники, более того – те самые пружины сюжета, которого как бы и нет, но при этом как-бы и есть – он распадается на отдельные истории, как распадается на байки из личного запаса каждого рыбака общий разговор у рыбацкого костра.
И, конечно же, люди. Нисколько не преувеличу, если скажу, что любой из персонажей Пыркова мог бы стать героем рассказа, повести, а то и романа. Да там, в тексте, за каждым из них как-бы тянется шлейф этого не написанного, но прожитого произведения: война, работа, знания, любовь… Все они: «шкипер Алексей, перевозчик дядя Гриша, лодочник Вениамин Петрович, островитянин Цыган, капитан дальнего плавания Савельев, билетерша тетя Люда» – все яркие индивидуальности, и при этом – как бы слепки времени, обстоятельств, слепки века ушедшего. И вместе с тем – часть Беклемишевского, такая же неотъемлемая часть его, как мели, заводи, бухточки и камыш… Забегая вперёд, констатирую очевидное – как и любая искренняя, настоящая, сердечная ностальгия, ностальгия Ивана Пыркова – она не по острову и былой рыбалке, остров-то – вон он, виден и сейчас из окна моего кабинета, в котором я пишу эту рецензию, и рыбаки на лодочках вокруг него ползают… Пырковская ностальгия – она по людям, по давно ушедшим людям и по давно ушедшим отношениям между ними, по отношениям, которые были в прошлом, но невозможны уже в настоящем, а потому, как у Вознесенского – «не по прошлому ностальгия, ностальгия по настоящему».
Вот, например, билетёрша тётя Люда: «Тетя Люда ко всем постоянным пассажирам обращалась поименно. Когда пароходик или баржа отчаливали от дебаркадера, она выходила из своего как бы вросшего в песок киоска, приютившегося в тени старого тополя, и махала кому-то неведомому рукой. Всех ждала и всех провожала. Диалоговое окошко ее будки было всегда открыто. Она воспринималась неразрывно с водой и песком, с опадающими листьями». Удивительная метафора про «диалоговое окно»! Грустно-ироничная, она примечательна как раз тем, что метафорой не является – и окошко – реальное, а не виртуальное, и женщина за ним была настоящая, а не ник или аватар. Думаю, проводить аналогии не требуется…
Или вот рассказ старого бакенщика, представителя профессии, уже на тот момент ушедшей, канувшей в Лету (Волгу!), вставная новелла в повести. В нём – другой, альтернативный какой-то даже позднему СССР мир, что-то из области репинских «Бурлаков» и яковлевских «Повольников» – иная Волга, чудная, непонятная уже почти работа, даже рыбалка (стерляжья!) совсем иная. А вот рассказ об этом всём тот же, с теми же островными улыбчивыми, ласковыми интонациями: «И знаешь, стерляди много в Волге кувыркалось. В Волге да в воложках – узких рукавах-стремнинах, песочком отороченных...» «Воложка»… Люблю это слово, по счастью, и ныне не забытое.
А ещё я заметил, что издавна, в ранних стихах ещё, а может, получив его в таком виде от отца – поэта, рыбака и поэта рыбалки, Иван Пырков использует удивительно нежную, полную потаённого какого-то тепла форму слова, означающему известный всему миру тип одежды. Тип, которым нас, русских, и величают, и ругают, и жалеют за который. Да, это он, она – фуфайка, телогрейка, стёганка, фуфел (прости Господи!), ватник. Так вот, у Ивана Владимировича этот национальный символ всегда – «ватнушка». Приятно, правда? Сразу представляется стылая осень, свинцовая вода, ждущая ледостава, пронизывающий ветер в тростниках, и рыбачок: вот он, маленькая точка на жёлтой излучине берега, один против осени, ветра, холода, и всё же тепло ему – он в ватнушке… Это у рабочего на заводе – промасленная фуфайка, это у механизатора в поле – ватник, это у солдата в окопе – телогрейка, это у зека в лагере – фуфел. А у рыбака – ватнушка. Прислушайтесь, как звучит: приглушённо, издалека, как свист ветра за окном в хорошо протопленном доме…
Былинность, фантастичность, сюрреалистичность даже, образов и сцен из повести складывается из множества составляющих. И, возможно, главная из них – время. Нет, это не банальная «народная мудрость» – «время, проведённое на рыбалке, в зачёт жизни не идёт». Идёт, наверное, ибо в противном случае завсегдатаи Беклемишевского жили бы вечно и нам нечего было бы сейчас обсуждать. Но всё-таки время на острове, как во всякой иной реальности, идёт (по закону жанра!) иначе. Вот, например, из истории про перевозчика дядю Гришу: «И еще дядя Гриша внимательно следил за временем – следовал собственному, лично утвержденному им расписанию, не опаздывая, не отставая от волны, и не заплывая вперед. Время-то волжское течет по-особенному, выплескиваясь из циферблатов. Волгари на часы не смотрят – всё больше на воду да на солнышко. Может, так оно и верней...»
«Выплёскиваясь из циферблатов» – очень точно и гармонично в контексте повести это определение, поскольку ощущение того, что и сам остров, и его герои будто пребывают в некоем текучем, жидком времени, явно обладающем большей плотностью, чем наше, обычное – это ощущение не покидает на протяжении всего чтения. И зависть вызывает, чего уж там…
Я вот тут много рассуждал о былинности, мифологичности, какой-то эпичности даже времени и места, так любовно описываемого автором в «Беклемишевском острове». А вместе с тем внимательный читатель не упустит случая возразить мне: да какой же тут эпос, былина? Обычные, хоть и душевные мемуары доброго человека о временах, когда «деревья были большими»! Простая, обыденная жизнь позднесоветских людей в одном из волжских городов – только и всего! Он будет прав и не прав, этот гипотетический «внимательный читатель».
Жизнь, конечно, обычная в своём повседневном течении. Но вот как пишет сам Иван Владимирович об этом в той части, где повествует об ещё одной «островитянке» – Марине: «Повседневность? Да, своего рода. Но кто сказал, что повседневность не может быть прекрасна? Иногда бывает важно разглядеть за непроглядными завесами что-то самое-самое. Разглядеть, даже если ничего там и нет. Тем я, может, и занимаюсь...»
Наверное, не было бы вообще реалистической литературы как таковой, а вместе с ней – и романтической (привет Байрону!), если бы писатели веками не вглядывались в повседневность, не оставляли её оттиски на бумаге, не документировали её в душах своих. Повесть Ивана Пыркова – из этого же рода, это не мемуары времени и места, это – мемуары души.
А если говорить о времени, об историческом, не метафизическом его значении, то ведь отстоит оно, время действия «Острова» от нас не так далеко – вторая половина 1970-х – 1980-е годы, близкая, хотя и постепенно уже забывающаяся эпоха. И, тем не менее, всё время ловишь себя на мысли, что картины, которые автор разворачивает перед тобой, гораздо более давние – ну, хоть середины прошлого века, что ли. Есть тут и незаметные, может быть, применённые Иваном Пырковым и неумышленно приёмы – как с описанием работы бакенщика, например. Хотя и понятно, что рассказ бакенщика бывшего – это воспоминание внутри воспоминания, ретроспекция, но всё же сразу невольно всплывает доронинское, с придыханием, про мужа: «Бакенщик. Огни на реке зажигает» – то есть те ассоциации, которые откуда-то оттуда, из чёрно-белого кино, из другого мира…
Или вот такая деталь: описываемый период на Волге – эпоха уже практически безраздельного господства теплоходов. Пароходы, может быть, где-то ещё тихонечко крутят винтами и даже шлёпают плицами колёс, но это безнадёжное ретро – больше для кино и недальних рейсов. По большей же части они уже стали турбазами, теми же дебаркадерами, а то и сданы в лом. По главной русской реке идут могучие многопалубные лайнеры, стремительные «Ракеты» и «Метеоры», дизельные самоходные баржи. И всё же… В тексте «острова» слово «теплоход» используется только один раз, где-то на отшибе, в глоссарии, курсивом, где объясняет, что «Омик – теплоход марки ОМ». Зато слово «пароход» – аж восемь раз, причём пять из них – в ласковой форме «пароходик»!
Вообще, по моим наблюдениям, даже для современного волгаря «теплоход» – это что-то из туристического буклета. А уж во времена детства Ивана Пыркова называть «пароходом» любое судно считалось законным делом, думаю, даже имело некий оттенок шика, жаргона: мол, мы тутошние, волжские, а не туристы какие-нибудь круизные! А уж «пароходик»… Пароходик – это всё туда же, в копилочку ласкового, тёплого, детского…
А ещё временами в повествование исподволь проникает… Иван Васильцов! Впрочем, поэтическое альтер-эго профессора филологии Ивана Владимировича Пыркова, вообще-то скорее главенствует в повести над степенным мемуаристом, и даже не понятно, почему в качестве автора не указан именно Васильцов. Но иногда он прямо-таки разрывает устоявшийся шаблон текста, такими, например, метафорами: «черёмуховое весеннее ненастье», «в просторном июне»! А? Каково?!
Или вот: «Если на бумаге нет слов, это не значит, что она пустая». Впрочем, это слова уже другого поэта – Владимира Ивановича Пыркова, который на страницах повести большей частью просто «папа» и даже в большей степени рыбак, чем литератор. Впрочем, место поэзии – не просто стихам и песням, а разговорам о поэзии, пониманию поэзии через эпикурейское островное существование в «Беклемишевском острове» есть, и это даже не об общей поэтической атмосфере. Среди островитян присутствуют и литераторы, и знатоки литературы, и благодарные слушатели. Раздел текста, посвящённый Олегу Максимовичу Лукъянову, мог бы стать частью художественной биографии этого замечательного советского фантаста! А как вам разговор с Николаем Павловичем Рыжковым, подвижником литературным, о…женщинах! Вот он: «Ты, конечно, помнишь, как заканчивается «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна: «Так что, когда я протянул руку, я схватил fille de chambre за...» С этого многоточия, – продолжал Рыжков, – начинается, как ты понимаешь, целая эпоха в европейской и русской литературе. И голые локти Пшеницыной в романе Гончарова «Обломов» – из того же ряда. А там недалеко и до Набокова, Бунина, еще и еще...» Николай Павлович, который «и представить, верно, не мог,[…] что кто-то еще не читал ни Стерна, ни Набокова...», а может и сам Иван Владимирович, литературовед и рыбак, тут оставил подводный камень не только тому самому «внимательному читателю», но и коллегам-филологам. Ведь у Стерна там никакое не многоточие, а так называемое «сентименталистское тире»: «– –». Которое любил и наш главный сентименталист Александр Радищев, и из которого вырос весь европейский литературный эротизм. Правда, за что именно потрогал горничную герой Стерна – так и осталось неясным, но сам факт бесед о началах сентиментального созерцания мира с шестиклассником на примерах из восемнадцатого века в конце двадцатого на острове напротив Саратова вызывает удивлённое восхищение!
Вообще, «островные Сократы» обсуждают в тени древнего дуба на берегу глубочайшие литературно-философские проблемы. Думаю, это не художественное преувеличение. У образованного, фундаментально образованного человека (а таковыми являются и многие герои повести, и сам её автор) почему-то именно на природе резко стимулируется генерация идей, открытий, смыслов. Неслучайно античные гении водили своих учеников во время бесед по аллеям и тропинкам! Вот и говорят рыбаки-философы о «Плаванье к Небесному Кремлю» Аллы Андреевой и о философском сборнике «Вехи». Отвлечённые, далёкие от бытия темы? Это как посмотреть: вон он, дом Семёна Франка, одного из авторов «Вех», тут же, в Саратове, на улице того же вышеупомянутого Радищева, рядом с Волгой.
Всё в России рядом с Волгой…
Впрочем, герой повести и его отец бегут от этих разговоров о философских вехах – рыбачить, скорей рыбачить! Потому что: «Рыбацкие вехи тоже могут быть еще как важны, я полагаю».
А убежишь ли от них, от философии, от поэзии, пребывая в этой весёлой робинзонаде? Они же тут повсюду! Вот престарелый отец «чудо-плотника» Витали, мастера мостков и столов, говорит: «Стол хорош, а табуреточку можно и брежнее сколотить». «Брежнее»… Откуда, из каких глубин народной памяти вынырнуло это, давно насмерть приросшее к «не» словечко? Почему «брежнее» ушло вместе с этим стариком, а «небрежнее» – осталось, укоренилось? И нет теперь у нас не бережения, не берегов тех…
А ещё на острове есть мама. Совершенно по-особенному она там присутствует, не так, как отец, не так, как другие герои. Она явно из другого мира – и к рыбалке, в целом, равнодушна, и ездит со своими мужичками-рыбаками нечасто, и ворчит на них. И всё-таки без неё было бы скучно и блекло, наверное – не потому, что Иван Пырков – хороший сын, а потому, что именно по образу матери, по-настоящему отдыхающей на Беклемишевском, чуждой рыбацкой суеты и нетерпения, можно понять, насколько умиротворяющей и особенной была атмосфера на острове. Кроме того, именно мама превращала суровый мужской почти поход с рюкзаками и кострами в пикник с конфетами, бутербродами и чаем с лимоном. И вообще она – в васильковом летнем платье, она загорает и просто спит в тени – сама безмятежность. Именно поэтому: «Когда с мамой – все по-другому». Именно поэтому, возможно, и повесть «Посвящается памяти моей мамы – Нэли Даниловны Васильцовой». У отца юный Ваня учится рыбачить, у «островных Сократов» – философствовать, а у мамы – наслаждаться жизнью. Это – тоже искусство, и ещё какое… А ещё ведь в самом начале Иван написал: «Волга, она ведь женского рода...» Женского рода, и не абстрактная «Волга-Волга, мать родная», а конкретная, у каждого своя, и вот у автора повести она чудесным образом слилась с образом матери.
И в сакральном, не то сновидческом, не то потустороннем финале повести герой естественно (помните, я начинал с неоднократного повторения этого слова) встречается у сокровенного шестого причала с мамой и папой. Встречается, чтобы плыть – туда, к Беклемишевскому, к Зелёному острову по маршруту, которого давно нет, на барже, которую давно сдали в утиль… Это невозможно только в заскорузлом мире практичного, меркантильного отношения к реке Волга и к реке жизни. А в былинном мире детских воспоминаний, полусне-полуяви ностальгии – ещё как возможно!
Спасибо, Иван Владимирович, за это сентиментальное путешествие!
Алексей Бусс,
член Союза писателей России